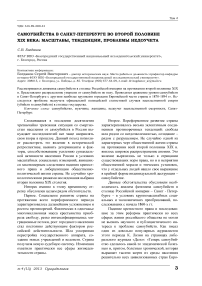Самоубийства в Санкт-Петербурге во второй половине XIX века: масштабы, тенденции, проблемы недоучёта
Автор: Богданов Сергей Викторович
Журнал: Суицидология @suicidology
Статья в выпуске: 4 (13) т.4, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается динамика самоубийств в столице Российской империи на протяжении второй половины XIX в. Представлено распределение умерших от самоубийств по полу. Проводится сравнение уровня самоубийств в Санкт-Петербурге с другими наиболее крупными городами Европейской части страны в 1870-1894 гг. Исследуется проблема недоучета официальной полицейской статистикой случаев насильственной смерти (убийств и самоубийств) в столице государства.
Самоубийство, мужчины, женщины, недоучет насильственной смертности, санкт-петербург
Короткий адрес: https://sciup.org/140141405
IDR: 140141405 | УДК: 616.89–008.44
Текст научной статьи Самоубийства в Санкт-Петербурге во второй половине XIX века: масштабы, тенденции, проблемы недоучёта
Сложившаяся в последние десятилетия чрезвычайно тревожная ситуация со смертностью населения от самоубийств в России вынуждает исследователей все чаще направлять свои взоры в прошлое. Данный поход позволяет рассмотреть это явление в исторической ретроспективе, выявить детерминанты и факторы, способствовавшие усилению суицидальной активности населения России в условиях масштабных социальных изменений, явившихся закономерным следствием падения крепостного права и либерализации общественнополитической жизни страны. Не случайно хронологическими рамками исследования выбрана вторая половина XIX столетия.
Интерес именно к этому временному отрезку обусловлен целым рядом обстоятельств.
Первое. Социальное развитие страны на протяжении всего пореформенного периода характеризовалось дальнейшим усложнением и ростом противоречий. Фактически в одночасье многомиллионная масса крестьянства приобрела свободу, резко интенсифицировались миграционные потоки, рост городского населения стал постоянно действующим фактором российской действительности. Шла ускоренная перестройка государственного аппарата, создание новых учреждений и ведомств. Страна получила новую судебную систему. Изменения охватили практически все сферы жизнедеятельности страны.
Второе. Пореформенное развитие страны характеризовалось весьма эклектичным соединением противоречивых тенденций: свобода шла рядом со вседозволенностью, созидание – рядом с разрушением. Не случайно одной из характерных черт общественной жизни страны на протяжении всей второй половины XIX в. явилось широкое распространение аномии. Это явление выразилось не только в отрицании существовавших норм права, но и в неприятии общественной морали и этических установок, что у отдельных людей нашло свое выражение в крайней форме индивидуальной деструкции – самоубийстве.
Данные обстоятельства обусловили необходимость анализа феномена самоубийств в столице Российской империи – Санкт - Петербурге – в условиях крупномасштабных социальных и экономических преобразований, последовавших с начала 1860-х гг.
Падение крепостного права и последовавшие за этим реформы практически во всех сферах жизни российского общества не могли не вызвать научного и публицистического интереса к проблеме самоубийств. Как писал один из довольно популярных журналистов этого периода К. Лизин на страницах либерального журнала «Дело»: «Теперь самоубийство сделалось какой-то эпидемической болезнью и, притом, болезнью хронической, которая вырывает тысячи жертв из среды населения решительно всех цивилизованных стран Евро- пы. Так говорит статистика, это же может сказать всякий, кто следит за городской хроникой» [12].
В то же время, еще три-четыре десятилетия назад проблема самоубийств, хотя и не была вовсе запрещенной, но все же относилась к нежелательным. Это, конечно, не значило, что цензоры категорически не допускали к печати книги или статьи, в которых в той или иной мере затрагивалась эта грань моральной статистики. Тем не менее, перечень публикаций, посвященных вопросам самоубийства в России, увидевших свет в первой половине XIX столетия, оказался незначительным.
Одним из первых в этом списке был доклад действительного члена Императорской Академии наук К.Ф. Германа «Изыскания о числах убийств и самоубийств в России в 18191820 годах», который им был озвучен в 1823 г. [22]. В рамках рассматриваемой проблемы автор анализировал ситуацию с насильственной смертью в губерниях Европейской части страны. Санкт-Петербург упоминался три раза. Однако тематика, затронутая в докладе, вызвала крайне негативную реакцию в правящих кругах. Поэтому изучение данных явлений российскими учеными не встретило ни понимания, ни поощрения со стороны государственной бюрократии.
В 1830-х гг. в некоторых географических, экономико-статистических описаниях появляются параграфы, специально посвященные отдельным негативным чертам «народной нравственности» – пьянству, преступности, самоубийствам. Отличительной особенностью данных работ явилась довольно упрощенная трактовка причин самоубийств среди населения столицы Российской империи в этот период. Так, например, И. Пушкарев в своем «Описании Санкт-Петербурга и уездных городов Санкт-Петербургской губернии» видит «… побудительный повод самоубийства – отчаяние, наведенное или действием бурных страстей, или стечением несчастных обстоятельств. Были же, однако, случаи, когда человек, изнемогая от самых благороднейших чувствований, тоскуя по родине, об умерших родственниках, решался на самоубийство!» [18].
В то же время автор упомянутой книги не видит в самоубийстве серьезной проблемы для государства и нации: «Вообще же насильственные лишения жизни и самоубийства, совершаются в Петербурге наиболее простолю- динами, и в незначительном числе сравнительно с другими столицами Европы; вернейшее доказательство истины, что понятия религиозные сохраняются у нас во всем благотворном своем могуществе» [18].
В 1847 г. из печати вышла небольшая по объему, но очень емкая по содержанию книга К.С. Веселовского «Опыты нравственной статистики России» [3]. Ценность данного исследования заключалась в том, что в нем впервые в России были поставлены проблемы недоучета насильственной смертности в России, содержалась богатейшая статистика самоубийств в губерниях страны, а также предпринималась попытка выявления совокупности факторов, толкающих людей к самоистреблению.
Таким образом, отечественная литература первой половины XIX столетия, посвященная самоубийству, не отличается обилием и многообразием рассматриваемых проблем.
Отмена крепостного права открыла период гласности в российском обществе. С начала 1860-х гг. проблематика самоубийств в России все чаще становится предметом научных исследований. Данные работы насыщаются разнообразной статистикой, в них присутствуют попытки представить социологические, психологические причины самоубийств. Наиболее заметными явились труды А.В. Лихачева, П.Ф. Булацеля [2, 14].
Что касается изучения самоубийств в Санкт-Петербурге, то интерес вызывают научные изыскания Ю. Гюбнера, П. Загорского, И. Пастернацкого, А.А. Липского, С.А. Белякова, Ф.К. Тереховко [1, 8, 11, 13, 17, 21].
Предваряя изучение суицидального поведения жителей Петербурга во второй половине XIX столетия, остановимся на отдельных статистических показателях самоубийств в столице Российской империи накануне и в первые годы после отмены крепостного права (18581862 гг.).
Итак, в 1858 г. в Петербурге от данного вида насильственной смерти погибло 66 человек (10,3 % от общего количества погибших насильственной и внезапной смертью), в 1859 г. – 55 человек (10,3%), в 1860 г. – 62 человека (12%), в 1861 г. – 42 человека (6,8%), в 1862 г. – 59 человек (8,7%) [4]. В среднем за год в расчете на 100000 человек от самоубийств в столице Империи погибало 5 человек.
Таким образом, внутри данного непродолжительного временного отрезка видно, что на год общественного перелома – 1861-й – выпадают самые низкие показатели количества погибших от самоубийств.
Развитие ситуации в последующие десятилетия показало, что самоубийство прочно вошло в жизнь крупных городов Европейской части страны. Увеличение количества погибших в результате насильственных и внезапных смертей вынудило Центральный Статистический Комитет МВД (далее – ЦСК МВД) МВД России приступить к сбору и публикации статистических сведений по данным видам смертности населения в стране [5, 19].
В 1897 г. из печати вышло очередное издание ЦСК МВД – Временник «Умершие насильственно и внезапно в Российской империи в 1888–1893 гг.» [6].
В сравнении с двумя предшествующими статистическим сборниками, посвященным насильственным и внезапным смертям в России, это издание содержало сведения о насильственных и внезапных смертях по десяти главнейшим городам Европейской России за период с 1870-1894 гг.
Видный российский криминолог конца XIX – начала XX столетия Е.Н. Тарновский так оценивал особенности распространения самоубийств в крупных городах Западной Европы и России: «В городах, в особенности в больших, самоубийство развито в колоссальных разме- рах. В Берлине свыше 300 самоубийств на 1000000 жителей, а в провинциях Пруссии только 150, в Париже и Вене свыше 400, в Петербурге около 200, тогда как в России только 30. Вообще самоубийство в русских городах относительно в три раза чаще, чем в сельском населении» [20].
Рассмотрим подробнее, как развивалась ситуация с самоубийствами в Петербурге и в отдельных наиболее крупных городах Европейской части России в 1870-1893 гг. (табл. 1).
Исследование динамики смертности населения наиболее крупных городов Европейской части страны в результате самоубийств за 1870-1894 гг. позволяет выявить некоторые особенности. Так, по абсолютным показателям наибольшее количество самоубийств было зафиксировано полицейской статистикой в Санкт-Петербурге, Москве и Одессе. Наибольшая доля погибших от самоубийств в общем количестве погибших в результате насильственной смерти оказалась в Риге (87,3%), Москве (84,7%), Петербурге (84,5%).
Статистика самоубийств в крупнейших городах Европейской России за два с половиной пореформенных десятилетия свидетельствует о неуклонном увеличении среднегодовых показателей умерших от самоубийств во всех наиболее крупных городах Европейской части страны.
Таблица 1
Среднегодовые темпы роста числа самоубийств в крупнейших городах Европейской России за 1870-1894 гг.
|
Города |
Число погибших от самоубийств в среднем за год, чел. |
|||||||||
|
1870-1874 |
1875-1879 |
1880-1884 |
1885-1889 |
1890-1894 |
||||||
|
муж. |
жен. |
муж. |
жен. |
муж. |
жен. |
муж. |
жен. |
муж. |
жен. |
|
|
С-Петербург |
54,2 |
10,0 |
60,2 |
11,8 |
105,2 |
24,2 |
123,0 |
31,4 |
131,2 |
37,0 |
|
Москва |
38,8 |
6,4 |
44,6 |
7,6 |
67,8 |
14,4 |
73,8 |
12,8 |
67,4 |
16,0 |
|
Нижний Новгород |
3,0 |
0,2 |
5,4 |
1,2 |
5,2 |
2,0 |
9,4 |
0,8 |
7,6 |
1,6 |
|
Казань |
3,8 |
0,2 |
6,8 |
1,6 |
9,0 |
4,2 |
16,4 |
9,8 |
13,4 |
8,6 |
|
Саратов* |
3,0 |
1,0 |
7,0 |
0,8 |
7,4 |
1,4 |
10,6 |
6,4 |
8,8 |
3,0 |
|
Харьков |
5,6 |
1,4 |
8,2 |
5,6 |
16,2 |
9,2 |
19,1 |
8,0 |
11,6 |
9,4 |
|
Киев |
4,2 |
1,2 |
10,6 |
2,4 |
22,2 |
6,8 |
25,4 |
8,6 |
29,0 |
9,0 |
|
Одесса** |
13,2 |
1,8 |
22,0 |
5,3 |
21,0 |
3,2 |
37,4 |
8,2 |
45,6 |
10,6 |
|
Рига*** |
9,2 |
2,0 |
13,4 |
1,8 |
19,8 |
4,4 |
19,0 |
5,0 |
28,8 |
7,8 |
Примечание: *Сведения по Саратову за 22 года. Нет данных за 1870 и 1871 гг.
**Сведения по Одессе за 22 года. Нет сведений за 1878 и 1881 гг.
***Сведения по Риге за 23 года. Нет сведений за 1870 г.
Как видим, среднегодовые темпы числа погибших от самоубийств в Петербурге имели тенденцию к постоянному увеличению. Так, к середине 1890-х гг. они увеличились у мужчин в 2,4 раза, у женщин – в 3,7 раза.
Анализ статистики самоубийств в столице Российской империи наталкивается на определенную сложность – расхождение показателей, представленных в различных документах.
Таблица 2 Распределение суицидентов по полу в Санкт-Петербурге в 1870-1894 гг.
(в % от общего количества зарегистрированных самоубийств)
|
Годы |
% от общего числа самоубийств |
|
|
Мужчины |
Женщины |
|
|
1870 |
76,3 |
23,7 |
|
1871 |
91,0 |
9,0 |
|
1872 |
87,1 |
12,9 |
|
1873 |
78,8 |
21,2 |
|
1874 |
88,3 |
11,7 |
|
1875 |
78,5 |
21,5 |
|
1876 |
87,7 |
12,3 |
|
1877 |
80,0 |
20,0 |
|
1878 |
90,4 |
9,6 |
|
1879 |
82,1 |
17,9 |
|
1880 |
84,6 |
15,4 |
|
1881 |
84,3 |
15,7 |
|
1882 |
78,2 |
11,8 |
|
1883 |
81,0 |
19,0 |
|
1884 |
79,6 |
20,4 |
|
1885 |
76,0 |
24,0 |
|
1886 |
75,8 |
24,2 |
|
1887 |
84,0 |
16,0 |
|
1888 |
82,3 |
17,7 |
|
1889 |
79,7 |
20,3 |
|
1890 |
72,4 |
17,6 |
|
1891 |
82,9 |
17,1 |
|
1892 |
81,7 |
18,3 |
|
1893 |
75,2 |
24,8 |
|
1894 |
74,0 |
26,0 |
|
Всего за 25 лет |
80,4 |
19,6 |
Согласно подсчетам ЦСК МВД, за 18701893 гг. (сведения о количестве самоубийств в отчетах МВД за 1875 г. отсутствуют) в столице государства от самоубийств погибло 2869 человек.
В то же время, согласно Всеподданнейшим отчетам Санкт-Петербургского градоначальника за 1873-1893 гг. (без сведений за 1880 и 1881 гг. – отчеты не составлялись), количество самоубийств в городе существенно разнится – 2505 случаев.
Представляет интерес остановиться подробнее на распределении самоубийств в столице Российской империи по полу в пореформенные десятилетия (табл. 2).
Несмотря на то, что по абсолютным показателям число самоубийств среди мужчин было значительно больше, чем среди женщин (в Санкт-Петербурге – в 4,1 раза), тем не менее, год от года происходило увеличение доли женщин, погибших от суицида в общем количестве умерших насильственно и внезапно. Так, в Петербурге эти показатели выглядели следующим образом: среди женщин – 19,6%, среди мужчин – 18,2%. Схожие тенденции обнаруживаются также в Риге, Харькове и Казани.
Анализируя преобладание мужчин, закончивших жизнь самоубийством, над женщинами, Э. Дюркгейм объяснял это следующим образом: «Если число женщин, покончивших с собой, гораздо меньше, чем число мужчин, то это происходит оттого, что первые гораздо меньше соприкасаются с коллективной жизнью и поэтому менее сильно чувствуют ее дурное или хорошее воздействие» [9].
В то же время условия пореформенного развития России способствовали ускорению процессов эмансипации женщин, прежде всего из высших и средних слоёв городского населения. Не случайно, на протяжении 1870-1894 гг. в Петербурге доля мужчин, кончивших жизнь самоубийством, в общем количестве суициден-тов, постепенно сокращалась, тогда как доля женщин имела тенденцию к увеличению.
Сравнение двух источников официальной статистики самоубийств в Санкт-Петербурге на протяжении исследуемого хронологического периода выявило наличие существенных различий. Основной причиной этого являлось крайне низкое качество моральной статистики в России, на что обращалось внимание еще в конце 1840-х гг. Так, К.С. Веселовский в своем труде указывал на неполноту и неточность официальных сведений о самоубийствах в стране: «Можно утвердительно сказать, что везде число самоубийств бывает значительнее того, какое оказывается на основании официальных документов» [3].
К.С. Веселовский в своем мнении был не одинок. Критика официальной статистики самоубийств в стране содержалась и в книге А.В. Лихачева [14]. По мнению доктора Ю. Гюбнера, отчеты МВД и губернских статистических комитетов учитывали всего лишь одну третью часть от действительного количества самоубийств [8].
Попытаемся прояснить чрезвычайно важный в контексте рассматриваемой темы вопрос: можно ли считать официальные сведения о самоубийствах в Санкт-Петербурге полными?
Упомянутый выше К.С. Веселовский приводит следующий довольно характерный пример: «Вычислено, что в Петербурге, по сложности восьми лет, приходится по 30 самоубийств на год; между тем, из рапортов петербургского обер-полицмейстера оказывается, что с 1834 по 1849 год, найдено мертвых и всплывших тел 172, из которых 116 по гнилости были преданы земле без анатомического вскрытия» [3].
К началу 1870-х гг. ситуация со статистикой насильственной смерти не претерпела изменений. Так, согласно сведениям ЦСК МВД, количество погибших от убийств и самоубийств в столице Российской империи за этот период составило 898 человек [6].
Однако целый ряд обстоятельств порождает сомнение в полноте данного показателя. Дело в том, что ЦСК МВД сведений о количестве обнаруженных мертвых тел, по которым судебно-медицинская экспертиза не смогла дать заключений о причинах летальных исходов за период с 1870-1894 гг. по столице Российской империи не представил. Что касается Всеподданнейших отчетов Санкт - Петербургского градоначальника, то в них содержалась информация о количестве обнаруженных мертвых тел, вскрытие которых из-за их гнилости не производилось. Это отчеты за 1873-1883 гг. С 1884 г. в отчетах по судебно-медицинскому ведомству такие сведения больше не публикуются.
Еще одна особенность предопределила масштабы латентной смертности от насильственных причин в Санкт-Петербурге во вто- рой половине XIX столетия - географическое положение российской столицы.
Особенностью географического положения Санкт-Петербурга явилось обилие рек, каналов. Наряду с определенными положительными моментами (крупный порт, оживленное судоходство, отсутствие проблем с водоснабжением), это также создавало и ряд серьезных проблем (угроза наводнения, большая вероятность несчастных случаев на водах столицы, возможность для преступника избавиться от жертвы собственного преступного умысла, замаскировав тем самым это деяние под смерть от несчастного случая - утопления).
Бесспорно, извлечение из воды тела погибшего человека не может однозначно являться свидетельством насильственной смерти. Но это также не может быть и неоспоримым свидетельством естественной смерти погибших, тела которых были выловлены в водах Петербурга. В целом, за 1873-1893 гг. из столичных рек и каналов было выловлено 3762 тела погибших, которые были отнесены к разряду «утопленников». Однако истинная причина смерти этих людей так и осталась до конца невыясненной.
Согласно отчетам Санкт-Петербургского градоначальника, только за период с 1873-1883 гг. у 797 обнаруженных мертвых тел «за гнилостью причины смерти не открыты». Не подлежит сомнению тот факт, что среди этого количества обнаруженных мертвых тел, определенная часть умерла в результате насильственных действий. Поэтому официальную статистику погибших от убийств и самоубийств необходимо увеличить, по меньшей мере, в 1,5-1,6 раза.
Одной из объективных сложностей определения действительных причин смерти выловленных тел из вод Петербурга являлся уровень судебно-медицинских исследований. Один из специалистов в этой сфере, врач П.П. Заблоцкий, разбирая характерные признаки смерти от утопления от помещения в воду уже мертвого тела, в заключение пишет, «… что все прочие признаки, упоминаемые врачами и взятые отдельно, недостаточны для определения рода смерти, и что одна совокупность может приблизить к вероятному заключению» [10].
Действительно, попытки сведения счетов с жизнью посредством утопления среди жителей Петербурга не были столь уж редким явлени- ем. В отчётах Санкт-Петербургского градоначальника с 1888 г. появляется информация о количестве покушений на самоубийство, совершенных на водах и учтенных речной полицией. Отдельно учитывается число спасённых из предпринявших попытку суицида.
Согласно отчетам этого подразделения столичной полиции, ситуация развивалась следующим образом: в 1888 г. на водах столичного города было зарегистрировано 76 покушений на самоубийство, было спасено 62 человека, в 1889 г. – 52 попытки и 35 человек, в 1890 г. – 83 попытки и 70 человек, в 1891 г. – 76 попыток и 69 человек, в 1992 г. – 61 попытка и 55 человек, в 1893 г. – 79 попыток и 64 человека соответственно.
Безусловно, попытки самоубийств совершались и ранее. Однако системы сбора и обработки сведений о попытках самоубийств до начала 1880-х гг. не сложилось. В.О. Михневич, ссылаясь на сведения доктора Н.В. Пономарева, приводит следующие цифры, иллюстрирующие статистику детского суицида. Только с 1869 по 1878 гг. в Петербурге 57 детей в возрасте от 8 до 16 лет были изобличены в покушениях на самоубийство, в том числе 16 из них погибли в результате суицида [15].
Как показали последующие события, в начале XX столетия российская государственность и общество столкнутся с настоящей эпидемией детских и подростковых самоубийств.
Обобщая сказанное выше, сделаем следующие выводы.
Настоящая статья изначально не ставила своей целью проведение полного анализа такого сложного социального явления, каким является самоубийство. Поэтому в поле зрения не попали такие вопросы, как: социальные факторы, которые обусловили воспроизводство данной социальной патологии среди столичного населения, не рассматривались особенности территориального распределения самоубийств по частям Санкт-Петербурга, способы осуществления суицида. Данные проблемы составляют отдельное исследование автора. В статье ставился достаточно ограниченный и конкретный круг вопросов, связанных с рассмотрением динамики самоубийств, расчетом уровня самоубийств среди жителей российской столицы, их распределением по полу, а также недоучетом количества погибших от насильственной смерти.
Итак, динамика смертности населения Санкт-Петербурга от самоубийств свидетельствовала о неуклонном увеличении числа жителей крупнейшего города страны, добровольно покончивших с жизнью. Города становились все более «суицидоопасными», чем сельская местность.
Распределение суицидентов в Санкт-Петербурге по полу показало традиционную картину: мужчины значительно преобладали над женщинами в общем количестве лиц, совершивших самоубийство. Хотя доля женщин постепенно увеличивалась в общем количестве суицидентов.
Статистика насильственной смертности по Санкт-Петербургу в пореформенные десятилетия не являлась полной. Она отражала всего лишь определенную часть умерших от убийств и самоубийств, причина смерти которых была очевидной и не вызывала сомнений у судебных медиков. Не вызывает сомнений тот факт, что среди указанного в отчетах количества обнаруженных в водах столицы Российской империи погибших определенная часть явилась жертвами убийств или самоубийств. В связи с тем, что ни полицейская статистика, ни отчеты Санкт-Петербургского градоначальника не отличались полнотой сведений, можно предположить, что реальное число погибших от насильственных причин в действительности было значительно больше.
В то же время, не смотря на расхождения статистики самоубийств, подготовленной различными властными структурами Российской империи, тем не менее, общие тенденции развития данного вида насильственной смертности среди городского населения прослеживаются отчетливо. И в этом плане статистика самоубийств, собранная столичным Градоначальством, обнаруживает схожую с другими наиболее крупными городами Европейской части Российской империи траекторию в динамике данного вида насильственной смерти.