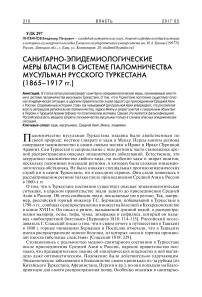Санитарно-эпидемиологические меры власти в системе паломничества мусульман русского Туркестана (1865-1917 гг.)
Автор: Литвинов Владимир Петрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 5, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье автор рассматривает санитарно-эпидемиологические меры, принимаемые властями в системе паломничества мусульман Туркестана. О том, что в Туркестане постоянно существует опасная эпидемическая ситуация, в царском правительстве знали задолго до присоединения Средней Азии к России. Современные историки стран так называемой Центральной Азии утверждают, что российская власть запрещала региональное паломничество, хадж в Мекку и зиярат шиитов к сакральным объектам в Персии и Турецкой Аравии (Ираке) по политическим мотивам. Однако это является фальсификацией. Российская власть вводила запреты паломничества мусульман только в случаях опасных эпидемических ситуаций.
Хадж, мусульмане, средняя азия, мекка, эпидемии
Короткий адрес: https://sciup.org/170168796
IDR: 170168796 | УДК: 297
Текст научной статьи Санитарно-эпидемиологические меры власти в системе паломничества мусульман русского Туркестана (1865-1917 гг.)
П аломничество мусульман Туркестана издавна было двойственным по своей природе: местное (зиярат) и хадж в Мекку. Персы-шииты региона совершали паломничество к своим святым местам в Иране и Ираке (Турецкой Аравии). Сам Туркестан и сопредельные с ним регионы часто становились ареной распространения опасных эпидемических заболеваний. Естественно, это затрудняло паломничество любого вида, но особенно хадж и зиярат шиитов, поскольку паломники посещали регионы, в которых была сложная эпидемиологическая обстановка. Не было никаких специальных противоэпидемических служб ни в самом Туркестане, ни в соседних странах. Они стали появились в рассматриваемом регионе только после присоединения Средней Азии к России в 1860-х гг.
О том, что в Туркестане постоянно существует опасная эпидемиологическая ситуация, в царском правительстве знали задолго до присоединения Средней Азии к России. Об этом сообщали люди, посылаемые им в регион. Так, например, российский горный инженер Т.С. Бурнашев, побывавший в Туркестане в 1790-х гг., сообщал о распространении множества болезней в Бухарском ханстве в конце XVIII в. Он писал о риште, вызываемой грязной водой, о распространении малярии, оспы, тифа, чумы, лихорадки и сифилиса, который он называл «любострастной болезнью» [Бурнашев 1818: 114-115]. Российский исследователь Г. Спасский писал о том, что в своем отчете о путешествии в Ташкент в 1800 г. горные чиновники Бурнашев и Поспелов отмечали, что в Ташкенте имели распространение многие болезни, из которых «оспа и горячка производят иногда гибельные следствия» [Спасский 1818: 229].
Столкнувшись с реальностью медико-санитарного состояния в Туркестане после присоединения Средней Азии к России, царское правительство осознало, что предварительное знание об эпидемических опасностях в ней выглядело даже оптимистическим. Положение было действительно удручающим. Эпидемические заболевания в большинстве своем проникали из-за рубежа (из Китайского Туркестана, Афганистана, Персии и др.), но они попадали на благоприятную для своего распространения почву. Особенно опасным в санитарно- гигиеническом отношении был Китайский Туркестан, где были густонаселенные города. Английский врач Белью, сопровождавший британское посольство к правителю Кашгарии Якуб-беку в 1870-х гг., отмечал, что в Восточном Туркестане было много разных болезней – тиф, лихорадка, оспа, золотуха, глазные болезни и т.д., «которые происходили от недостатка гигиены в соединении с порочными привычками» [Белью 1877: 18]. Учитывая исторически давние и разнообразные связи Средней Азии (Западного Туркестана) с Восточным, можно сказать, что именно из Кашгарии проникало в Русский Туркестан большинство эпидемических заболеваний. Ранее они находили здесь благодатную почву для распространения, поскольку санитарное состояние всех населенных пунктов Средней Азии в дороссийский период оставляло желать лучшего. Однако с приходом России произошли изменения в санитарно-гигиеническом надзоре и контроле, но они были частичными. Газета «Туркестанские ведомости» писала в 1882 г. о том, что санитарное состояние «туземных» селений в крае можно характеризовать как угрожающее, порождающее массу инфекционных заболеваний среди населения1. Газета «Терджиман» писала 18 марта 1890 г., что туркестанский генерал-губернатор А.Б. Вревский посетил Бухару и «русское население обратилось к нему с предложением донести до эмира о гигиене и чистоте города»2. И это подтверждалось многими конкретными жизненными примерами. Наиболее частой «гостьей» в Средней Азии была холера, которая фактически не покидала регион. Поскольку сегодня историки-националисты из стран так называемой Центральной Азии обвиняют русскую прессу Туркестана в ангажированности, то мы позволим себе сослаться на соответствующие сведения, которые публиковала популярная среди мусульман России указанная нами газета «Терджиман», издававшаяся в Бахчисарае (Крым) известным исламским прогрессистом И. Гаспринским, которую трудно заподозрить в проправительственной ориентации. Она постоянно информировала читателей о сложной эпидемической обстановке в Средней Азии, причем достаточно объективно. Так, например, И. Гаспринский сам писал 31 июля 1889 г. в газете «Терджиман» (№ 28) о том, что холера в Бухаре «свирепа» – за 3 дня умерли 702 местных жителя, тогда как русские жители и рабочие-железнодорожники не пострадали, т.к. среди них медики провели профилактику3. Он же писал в газете «Терджиман» от 21 августа 1892 г. (№ 31), что с 7 июня по 2 августа в Ташкенте из 396 холерных русских умерли 209 чел., тогда как из 1 344 мусульман – 1 325. Гаспринский констатировал: «Удивительно, половина заболевших русских выздоровела, а мусульмане почти все заболевшие умерли; значит, мы сами должны заботиться о своем здоровье (курсив наш. – В.Л.)»4.
Как известно, холера лета 1892 г. вызвала бунт среди мусульман Ташкента, которые встретили в штыки вынужденные и необходимые санитарногигиенические меры властей, направленные на то, чтобы спасти жизни людей. Газета «Терджиман», понятно, промолчала относительно их полезности, однако признавала, что в 1892 г. в результате профилактических мер бухарского правительства (исполнявшихся русскими медиками) на территории ханства не было «повальных» болезней5. Газета отмечала в июне 1892 г., что холера перебралась из Афганистана в Среднюю Азию и на Кавказ6. В 1903 г., когда холера свиреп- ствовала в Хивинском ханстве, «Терджиман» задавала вопрос: «От холеры можно делать вакцинацию, или этот способ не известен в Хиве?»1 Крымский татарин, видимо, не верил в то, что его единоверцы в Хиве живут в условиях средневековья, в связи с чем им многое было неизвестно из того, что знали и свободно применяли российские мусульмане в Поволжье, Западной Сибири, Крыму. Другим постоянным заболеванием в Туркестане была малярия. Та же газета «Терджиман» писала 8 сентября 1889 г. (в № 32), что в Бухаре свирепствует малярия, унесшая за летние месяцы 7 тыс. жизней. Основная причина – непроточная вода. Каждый день умирали 150 чел. При этом газета подчеркивала, что русские в Бухаре не заболели, т.к. по отношению к ним были приняты санитарно-гигиенические меры2. Судя по сообщениям газеты, «по рекомендации русских чиновников бухарский эмир купил лекарства от малярии на 6 тысяч рублей для распространения среди населения»3. А потому в 1890 г. в Бухаре не было малярии, поскольку вычистили базары и площади и купили «необходимое количество лекарств»4.
В 1890-х гг. малярия «трясла» население Ташкента, Ангрена, Мервского оазиса и других районов. Особенно опасной была вспышка малярии в селении Озноб Самаркандской области, куда даже вызвали врачей из Петербурга. Газета признавала, что русскими властями были приняты все меры к пресечению распространения малярии из района селения Озноб, и 23 ноября 1898 г. писала, что председатель русской врачебной комиссии по ликвидации малярии был принят бухарским эмиром, который просил его перечислить меры, которые следует принять для предотвращения эпидемии малярии в Бухарском ханстве5. 8 декабря 1898 г. она сообщала (№ 48), что эпидемия малярии в Самаркандской области ликвидирована6. 15 апреля 1899 г. газета «Терджиман» (№ 14) писала о том, что русские врачи из комиссии по борьбе с малярией посетили в Самарканде медресе «Шир-дор» и показали 300 муллабачам (студентам) через микроскоп вирус малярии. Газета хвалила их за это7. Нередким явлением в жизни Средней Азии были и эпидемии оспы8.
Особенную опасность для жителей Туркестана представляла чума – так называемое моровое поветрие. В самом конце XIX в. регион вызвал большую тревогу у столичных властей, которым было известно, что чума уже заявила о себе (Афганистан, Персия, Западный Китай – Синьцзян)9. По сообщениям прессы, она свирепствовала во многих местах Русского Туркестана10. Поэтому осенью 1898 г. в Туркестанский край, объединявший к тому времени все 5 российских областей в Средней Азии (Сырдарьинскую, Семиреченскую, Самаркандскую, Ферганскую и Закаспийскую), был отправлен сам председатель правительственной противоэпидемической комиссии принц Ольденбургский, наделенный весьма обширными полномочиями, даже выходящими за пределы его «профильной» деятельности1.
Во-первых, он получил от государя императора право отстранять от должности лиц, виновных в лихоимстве, злоупотреблениях и др. должностных преступлениях и проступках, вплоть до имеющих 4-й класс включительно. Таким образом, действительные статские советники, приравненные по «Табели о рангах» к воинскому званию генерал-майора, могли пострадать по воле лишь одного лица – царского родича и главного борца с эпидемическими заразами в империи. Во-вторых, он получил право докладывать царю о злоупотреблениях каждого лица, назначенного высочайшим указом, т.е. генерал-губернатора и командующего войсками Туркестанского военного округа, областных губернаторов и прочих высших руководителей, состоявших в 3-м классе (генерал-лейтенантов) и выше.
В-третьих, принцу предоставлялось право использовать войска в необходимых случаях и по собственному усмотрению. Наконец, в-четвертых, он имел также право высылать из Туркестанского генерал-губернаторства (края) всех тех, кто, по его мнению, представлял опасность и вред для «русского дела» в Средней Азии. Принц начал действовать в чумном Туркестане решительно и энергично, о чем сообщала пресса2. В край приехали ведущие специалисты по борьбе с чумой. Среди них был и доктор-осетин (статский советник) М.Х. Далгат (1849–1922), ездивший вместе с капитаном Давлетшиным для изучения медико-санитарной обстановки в Хиджазе (Мекке и Медине). Публикатор С.А. Магомедова пишет о том, что «сразу после возвращения из Аравии 17 октября 1898 г. Далгат был командирован в Туркестанскую губернию (Средняя Азия) для оказания помощи местным врачам в борьбе с эпидемией чумы. Из командировки он возвратился 20 января 1899 г.»3.
Усилиями комиссии принца Ольденбургского и краевых властей чума в Русском Туркестане в конце XIX в. была подавлена, однако она и в дальнейшем продолжала проникать в регион из сопредельных стран – китайского Синьцзяна, Афганистана и Персии. В начале ХХ в. чума достигла отрогов Памира. Военный губернатор Ферганской области генерал-майор Г.А. Арендаренко сообщал в рапорте от 18 ноября 1902 г. туркестанскому генерал-губернатору генерал-лейтенанту Н.А. Иванову, что неподалеку от Ташкургана (на российско-китайской границе. – В.Л.) обнаружилась болезнь, от которой «через два-три часа наступает смерть»4. Болезнь уже появилась в Гильгите. В Ташкурган выехал врач Памирского отряда Пальчиковский и признал в болезни «бубонную или легочную чуму». Он отмечал, что в Ташкургане люди перепуганы известиями о приближающейся эпидемии. Арендаренко просил туркестанского генерал-губернатора выделить 2 тыс. руб. для найма дополнительного штата охраны границы из числа киргизов5. Однако 24 ноября 1902 г. штаб ТуркВО писал ферган- скому губернатору, что «главный начальник края» отказал в выделении испрашиваемых им средств1.
16 декабря 1902 г. начальник Памирского отряда капитан Снесарев писал в штаб ТуркВО, что на российские территории надвигается чума2. 18 января 1903 г. Снесарев сообщал в штаб ТуркВО, что в Горном Бадахшане вспыхнула эпидемия кори, от которой умерло много детей. 1 марта 1903 г. в рапорте в штаб ТуркВО он указывал, что болезнь в Бадахшане продолжается3. 7 апреля 1903 г. Снесарев сообщал в штаб ТуркВО, что новые сведения об эпидемии отсутствуют, но «не получалось также сведений о ее прекращении»4. 1 сентября 1903 г. он писал в штаб ТуркВО, что на рубежах Русского Памира вновь появилась холера5.
В 1907 г. первые признаки чумы обнаружились в Пржевальском уезде Семиреченской области, граничившем с Китайским Туркестаном. Поскольку граница с ним была фактически свободна для прохода, то кочевники, торговцы и паломники заносили заразу из Кашгарии. И так было с давних пор. Семиреченский областной врач Н.Л. Зеланд писал, что 20 августа 1886 г. российский императорский консул в Кашгаре (Н.Ф. Петровский) сообщил в город Верный, что в китайском городе Аксу (Кашгария) «открылась сильная холера» [Зеланд 1888: 1]. Это было предупреждением для властей Семиреченской области, граничившей с Кашгарией. Поэтому было решено отправить семиречен-ского областного врача в Кашгарию, чтобы он на месте установил, действительно ли болезнь в Аксу является холерой и насколько она опасна для населения Семиречья [Зеланд 1888: 1]. Позже, прибыв в местность Аксу, Зеланд писал: «…ко времени нашего прихода в Аксу quasi-холера уже угасла» [Зеланд 1888: 112].
Информируя население о чумной угрозе в 1907 г., областная пресса публиковала правила санитарного содержания всех населенных пунктов Семиреченской области6. Но чума из Прииссыккулья перебралась в Атбашинский участок Пржевальского уезда Семиреченской области7. Симптомы ее проявлялись и позже, вплоть до начала Первой мировой войны8. Газета «Терджиман» писала 11 декабря 1912 г. (№ 49), что официально подтвержден факт чумы в окрестностях Мерва9. 30 декабря 1912 г. в газете «Терджиман» (№ 63) отмечалось, что в Мерве русскими властями начато проведение интенсивных и срочных противочумных мер10.
Понятно, что в рассматриваемый нами период не только в Туркестане, но и в большинстве стран мира (особенно в слаборазвитых и колониальных) часто имели место разного рода эпидемии – чумы, холеры, оспы, тифа и прочих опасных заболеваний. В это время они случались даже в развитых странах. Но в таких странах уже существовали развитые медицинские и санитарногигиенические службы, правда, преимущественно в городах. Были знания, опыт, подготовленные кадры и, наконец, средства на «погашение» внезапно вспыхивавших эпидемий. И все равно они периодически случались, причем с немалыми жертвами.
У России уже имелся опыт организации врачебно-наблюдательных пунктов в Черноморско-Кавказском регионе, которые находились в ведении МВД. Появились такие пункты и на границах Русского Туркестана, причем они были устроены на основном направлении движения мусульманских паломников: как суннитов, следовавших к индийским портам для посадки на корабли, идущие в Хиджаз, так и для шиитов, отправлявшихся на поклонение своим святыням в Персии и Ираке (Турецкой Аравии). Существовали 5 таких пунктов, причем 4 из них располагались на персидской территории (Турбетский, Кяризский, Ширазский и Керманский), а 1 – на российской (Тохтабазарский Закаспийской области). Заведующие этими пунктами призваны были следить за санитарногигиеническим положением в своих местностях, чтобы предупреждать приближение эпидемий к границам Русского Туркестана и среднеазиатских ханств. Пункты были необходимы для своевременного выставления карантинов на границах. Они отслеживали движение паломников, а указанные пункты – особенно к шиитским святыням. В своих донесениях заведующие этими пунктами отмечали не только санитарно-гигиенические и медицинские условия, но общее положение в пунктах наблюдения, движение торговых караванов, количество товаров, их ассортимент, число обслуживающего персонала караванов, появление новых групп паломников и отдельных лиц и т.п.
Судя по архивным материалам, рапорты от заведующих пунктами шли часто – иногда по 1, а то и по 2–3 раза в неделю. В отличие от врачебно-наблюдательных станций Черноморско-Кавказского региона, рассматриваемые пункты были структурами Военного министерства и находились в подчинении военномедицинского управления Туркестанского военного округа, по сметам которого они и содержались. Заведовали пунктами, как правило, младшие военные врачи в чине коллежского асессора (майора). Но они могли быть и чином ниже. Любопытно, что рапорты заведующих указанными пунктами шли вначале не окружному военно-медицинскому начальству, а командованию 2-го Туркестанского армейского корпуса, но разным его представителям. Так, заведующий врачебно-наблюдательным пунктом в Турбет-Хайдари (Персия) подавал рапорты на имя начальника штаба 2-го Туркестанского армейского корпуса, тогда как заведующий Кяризским пунктом направлял рапорты на имя лично командира 2-го Туркестанского армейского корпуса. Рапорты медицинского содержания просматривались командованием корпуса и передавались корпусному врачу, который, суммировав их содержание, отсылал сведения туркестанскому окружному военно-медицинскому инспектору1.
Естественно, что в условиях фактически постоянного присутствия эпидемических заболеваний на территории Русского Туркестана и среднеазиатских ханств – Бухарского и Хивинского – любой вид мусульманского паломничества – зия-рат или хадж – были практически невозможны. Однако попытки некоторых «исследователей» обвинить в запрете посещения святых мест ислама в регионе или исполнения хаджа русскую администрацию в Туркестане совершенно беспочвенны. Независимая от властей мусульманская газета «Терджиман» свидетельствовала 11 марта 1897 г. (№ 10), что «туркестанский генерал-губернатор [Вревский. – В.Л.] после переговоров с бухарским эмиром и хивинским ханом запретил совершать паломничество к “святым местам”, расположенным на территории Русского Туркестана и ханств, из-за распространения холеры в этих государ- ствах (курсив наш. – В.Л.)»1. Как мы видим, запретительное творчество по отношению к региональному паломничеству мусульман к святым местам ислама в крае было плодом взаимного сотрудничества «главного начальника края» и двух среднеазиатских ханов, которых никто не заставлял идти на что-то подобное, ибо они сами прекрасно понимали его необходимость. Это был всеобщий консенсус, что трудно опровергнуть.
Таким образом, региональное (туркестанское) паломничество к святым местам ислама в регионе и хадж в Мекку нельзя более представлять как непрерывный процесс, что было свойственно многим его исследователям, не обращавшим внимания на такую «мелкую» деталь, как медико-эпидемиологический аспект проблемы. Зиярат и хадж туркестанских мусульман нередко прерывался, причем далеко не по политическим причинам, как это кажется националистически ориентированным историкам из государств так называемой Центральной Азии, а по более прозаическим – медико-эпидемиологическим – обстоятельствам.
Список литературы Санитарно-эпидемиологические меры власти в системе паломничества мусульман русского Туркестана (1865-1917 гг.)
- Белью. 1877. Кашмир и Кашгар. Дневник английского посольства в Кашгар в 1873-1874 г. СПб: Типография Т-ва «Общественная польза». 309 с
- Зеланд Н. 1888. Кашгария и перевалы Тянь-Шаня. Путевые записки. Записки Западно-Сибирского Императорского Русского географического общества. Кн. 9. Омск: Типография окружного штаба. 212 с
- Бурнашев Т.С. Путешествие от Сибирской линии до города Бухары в 1794 и обратно в 1795 году. 1818. -Сибирский вестник. Ч. 3. С. 95-130
- Спасский Г. 1818. Путешествие от Сибирской линии до Ташкента и обратно в 1800 году. -Сибирский вестник. 1818. Ч. 4