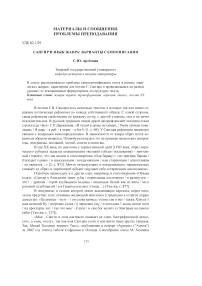Сапгир и язык жанра: варианты самоописания
Автор: Артмова Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема самоидентификации поэта в разных лирических жанрах, характерная для поэзии Г. Сапгира и проявляющаяся на разных уровнях: от декларативных формулировок до структуры текста.
Жанры лирики, трансформация, адресат, диалог, поэзия хх века
Короткий адрес: https://sciup.org/146121980
IDR: 146121980 | УДК: 82-1/29
Текст научной статьи Сапгир и язык жанра: варианты самоописания
В поэзии Г. В. Сапгира есть несколько текстов, в которых так или иначе отражена поэтическая рефлексия по поводу собственного образа. С одной стороны, такая рефлексия свойственна не каждому поэту, с другой стороны, она и не нечто исключительное. В русской традиции самой яркой авторефлексией человека стали строки оды «Бог» Г. Р. Державина: «Я телом в прахе истлеваю, / Умом громам повелеваю, / Я царь – я раб – я червь – я бог!» [1, с. 69]. У Сапгира рефлексия напрямую связана с жанровым самоопределением. В зависимости от жанра образ поэта коренным образом меняется. Попробуем показать это на примере нескольких жанров: оды, эпиграммы, посланий, элегий, сонета и молитвы.
В оде ХХ века, по аналогии с торжественной одой XVIII века, образ лирического субъекта задается координатами «великий (объект воспевания) – ничтожный (герой)», что мы видим в стихотворении «Ода бараку»: «но призрак барака / блуждает однако / и взыскующим / воздыхающим / нам стареющим / алкоголикам / он является…» [2, с. 873]. Мечта «взыскующих и воздыхающих» парадоксально снижает их образ, и лирический субъект ощущает себя «стареющим алкоголиком».
Подобное происходит и в других одах, например, в стихотворении «Облака (ода)»: «Сапгир к блондинке тянет губы / переплывая постепенно / в разинутую – что? – дракона / горой клубящиеся мышцы / кишечник белый как из ваты / мозг розовый голубоватый / и в Генриха влетают птицы…» [Там же, с. 877].
В эпиграмме, в основе которой лежит высмеивание адресата, перед читателем предстает поэт, отчаянно желающий вписаться в традицию и отчасти оправдаться ею: «Хельмеци – поэт – / он слова кромса / понял све и вет / также Хокуса // наш великий Пу / второпях слова / в черновик опу / и негодова // сколь несме поги / на просторах лит / так что мне – Сапги / и сам бог велит» («Эпиграма на самого себя» [Там же, с. 327]).
«Мне – Сапги» в этом контексте означает не «мне, биографической личности», а «мне, поэту», так как имя Сапгира стоит в контексте имен других творцов. Так, Михай Хелмеци перевел Тассо, опубликовав в номере «Ауроры» (“Aurora”) за 1882 год эпизод гибели Софронии и Олинда. Своеобразие стиха М. Хелмеци создается за счет манеры переводчика сокращать слова ради целостности строки («Тут неверные во страхе завопи-»). В XIX веке автору дали насмешливое прозвище «Хелмеци поэт, что слова кромсает», но в конце ХХ такой способ письма становится одной из визитных карточек поэзии Сапгира.
Имя «Сапги» логично вписано в традицию, ему поступать так, как поступали предшественники-творцы, «сам бог велит», а точнее, поэтическое слово, язык поэзии. Самоидентификация здесь строится по схеме «я как великие». Если в оде образ героя снижался, то в эпиграмме он, пусть и иронически, возвышается.
Показательно изменение образа поэта и в любовных посланиях, в частности, в цикле «Люстихи», где образ поэта вообще исчезает: то он видит только ЕЕ (возлюбленную), то отстраняется и видит ЕГО (себя со стороны), Я в любви исчезает как грамматическое имя, превращается в «он», а затем вообще стирается за ненадобностью: «Море / Песок / Наискосок – / Я и ты / Еще / Я и ты / Он / Ты / Еще ты // А где же я?» («Лида» [Там же, с. 123]). Жанр, построенный на коммуникации с идеальным собеседником, позволяет задаться герою вопросом, где же он сам как отдельная личность.
В другом послании автор отстраняется от адресата, обретает дистанцию, необходимую Буфареву (придуманному двойнику поэта), чтобы описать Сапгира. Описание это ироническое, но в то же время и трагическое, раздвоенность преодолеть невозможно, и неоконченные слова и окказионализмы здесь уже не поэтическая небрежность, а творческая попытка сложить образ «из ничего», как в «Послании – Сапгиру» [Там же, с. 277]:
Твой вислозадый ус, твой волосатый пуз по перышку я описать берусь
Прощай Сапгирыч – молодец-дедусь
Форфора чашечка и листья глянцем воска и Питиунда про – всю вылюбили, тёзка – ты – черномор и я – кусок довеска
Дождь на шоссе, смиренный вид коров Я – буф! я – пуф! из трубочки искрев Из ничего сложился Буфарёв
Я – клоун! цирк! – но и в брезенте дырка
Я тот мальчишка – «посмотреть» – из парка
Ага! попался! ждет годяя порка
Тебе в тумане чáйку вместо рук я протяну – расстанемся, навек? -Все будут жить и ждать глазами всех собак…
Бери, Сапгир, дарю свои терцихи – хоть бы они завязли в чьем-то ухе и то мне хлеб – хрычу и выпивохе
Но ты – не Герцен, я – не Огарев – хоть кроликам скорми! Прощай и будь здоров Мкрч! Твой лоскутный тезка Буфарев.
Послание акцентирует внимание не на встрече, а на прощании, не на сходстве двух субъектов (биографической личность и поэтического воплощения), а на их различии. Отсюда и принижение роли творчества (ты, реальная биографическая личность, «черномор», злой гений – а я, творческая ипостась, эфемерен, я «кусок довеска»). Отсюда и фразы «расстанемся навек», «прощай и будь здоров» – это не демонстрация смерти героя, а декларация его независимости, самобытности, отдаления «творческой копии» от биографического «оригинала». Послание здесь осознается не только как жанр, воплощающий в себе «коммуникацию вопреки обстоятельствам», но и как текст, акцентирующий внимание на разнице говорящего и слушающего. Творческая личность, воплощенная в местоимении «я», может говорить с Сапгиром как биографической личностью, но тот не может ответить. Лирический герой раздвоен в попытке автокоммуникации.
О такой раздвоенности, попытке увидеть себя со стороны и объяснить собственную сущность – первое стихотворение цикла «Этюды в манере Огарева и Полонского», по жанру близкое к элегии [Там же, с. 291]:
Никто! мы вместе только захочу на финских санках я тебя качу ты гимназисткой под шотландским пледом а я пыхтящим вислоусым дедом – и разбежавшись по дорожкам льдистым сам еду на полозьях гимназистом Мы – отсветы чужие отголоски мелькают елки сосенки киоски – и с хода на залив где ветер дует где рыбаки над лунками колдуют где мне в лицо пахнет твой волос дымный не нашим счастьем под луною зимней
В элегии «Акт», основа которой – осознание героем несовершенства мира, мы видим ту же раздвоенность, что и в послании, но лишенную иронической рефлексии: «Лишь теперь находя свои черты – я слышу как она лепечет – с недоуменьем отмечая – в шкафу порядок – бритва в ящике стола – глядя в зеркало которое глядит – подозреваю не больше и не меньше как обман – и недоумевая – Я не ОН! – старнно глядеть на самого себя на звезды – какой масштаб! – Как несоизмеримо! – как все во всем – и все во всем разъято – и все – один божественный плевок» [Там же, с. 148]
Или в элегии «Освобождение»: «Маленькое Я во мне пульсирует – так на запястье тикают часы – можно снять твое тело вместе с одеждой – плоская модель Вселенной – и повесить на спинку стула – двенадцать знаков зодиака – чтоб отдохнуло маленькое Я…» [Там же, с. 159]. Отстранение от себя самого строится по законам жанра: мир несовершенен, а значит, и я – всего лишь «маленькое я», «божественный плевок».
В стихотворении «Вечерний сонет» я, ты и он образуют «три стороны медали», трагическую триаду, обусловленную содержанием любви и смерти: «Я ущитп-нул себя – не удержался / Но крикнул он – из черной немоты! / А в зеркале напротив отражался / Еще один двойник и демон – ты // И с ужасом друг друга наблюдали / Три разных стороны одной медали» [Там же, с. 235]. Сонет как жанровая форма потенциально содержит в себе мысль о смерти, отсюда – ужас героя.
Мотив ужаса перед собственной «чуждостью» появляется даже в зарисовках, стихотворениях на случай, как, например, тексте «Двойная тень»: «вздрогнул – моя двойная тень на снегу / высоко двоится белая луна / на двойной луне – двойное небо // три звезды – алмазная стрела / на снегу – алмазная стрела / вздрогнула двойная луна // высоко двоится белая тень / вздрогнуло мое двойное небо / алмазная стрела пронзила тень – // мою двойную тень на снегу » [Там же, с. 414].
И наконец, жанр молитвы (стихотворение «О себе») представляет нам еще один вариант самоописания: «дышу на бумагу / блаженно рукой помаваю / и славлю дыханьем Тебя / наверно я самый / из них сумасшедший – / из них нищих духом / и попросту бедных / с их тощими книжечками / и кирпичами стихов» [Там же, с. 700].
Таким образом, перед нами череда стихотворений с поэтической рефлексией по поводу собственной идентичности. Главное, что их сближает, – ощущение раздвоенности личности, сложности «я» как такового. Но понять специфику раздвоенности в каждом конкретном случае помогает жанр, дающий координаты личности в зависимости от самого языка жанра, от содержания и интенции. Всюду герой пытается увидеть себя со стороны, но в любовных посланиях это счастье растворения в другом, в послании, элегиях и сонете – трагедия раздвоенности, в эпиграмме – фарс похожести себя на других.
Список литературы Сапгир и язык жанра: варианты самоописания
- Державин Г. Р. Стихотворения. Петрозаводск: Карелия, 1984. 248 с.
- Сапгир Г. Складень. М.: Время, 2008. 928 с.