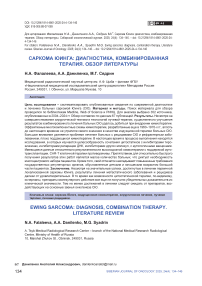Саркома Юинга: диагностика, комбинированная терапия. Обзор литературы
Автор: Фалалеева Н.А., Даниленко А.А., Сядрин М.Г.
Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj
Рубрика: Обзоры
Статья в выпуске: 4 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования – систематизировать опубликованные сведения по современной диагностике и лечению больных саркомой Юинга (СЮ). Материал и методы. Поиск материала для обзора проводился по библиотекам Medline, Web of science и РиНЦ. Для анализа выбрано 352 источника, опубликованных в 2004–2024 гг. Обзор составлен по данным 67 публикаций. Результаты. Несмотря на совершенствование хирургической техники и технологий лучевой терапии, существенного улучшения результатов комбинированного лечения больных СЮ удалось добиться при внедрении химиотерапии. Эффективные многокомпонентные схемы химиотерапии, разработанные еще в 1960–1970-х гг., вплоть до настоящего времени не утратили своего значения в качестве индукционной терапии больных СЮ. Большое внимание уделяется проблеме лечения больных с рецидивами СЮ и рефрактерным заболеванием, плохо поддающихся химиотерапии. В настоящее время в процессе выполнения находятся исследования, в которых изучается целесообразность сочетания цитостатиков с ингибиторами тирозинкиназ, ингибиторами репарации ДНК, ингибиторами других молекул, с аутологичными вакцинами. имеющиеся данные относительно результативности высокодозной химиотерапии с поддержкой аутотрансплантации, CaR-t клеточной терапии противоречивы. Препятствием для относительно быстрого получения результатов этих работ является малое количество больных, что диктует необходимость многоцентрового набора пациентов. Кроме того, свой отпечаток накладывают повышенные требования государственных регуляторных органов, обусловленные детским и юношеским возрастом большой части пациентов. Заключение. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении первичной локализованной саркомы Юинга, результаты лечения метастатического заболевания и рецидивов далеки от удовлетворительных. В то время как возможности цитостатической терапии, по-видимому, исчерпаны, препараты молекулярного действия все еще не получили убедительных доказательств их клинической значимости. Тем не менее достижений в лечении следует ожидать от препаратов, воздействующих на основные звенья онкогенеза СЮ.
Саркома Юинга, индукционная химиотерапия, хирургическое лечение, лучевая терапия, лечение рецидивов
Короткий адрес: https://sciup.org/140312279
IDR: 140312279 | УДК: 616-006.88-07-069 | DOI: 10.21294/1814-4861-2025-24-4-134-146
Текст научной статьи Саркома Юинга: диагностика, комбинированная терапия. Обзор литературы
Саркома Юинга (СЮ) представляет собой злокачественную опухоль, происходящую из мезенхимальных клеток и поражающую кости и мягкие ткани. Чаще всего СЮ возникает в костях, на долю мягких тканей приходится лишь 10–20 % случаев [1]. Заболевание впервые описано в 1921 г. выдающимся американским патологом Джеймсом Юингом (James Ewing), в честь которого оно получило свое название [2].
Ежегодная заболеваемость в популяции европеоидной расы составляет 3 случая на 1 млн, среди африканского и азиатского населения СЮ встречается несколько реже, что обусловлено, вероятно, специфическим полиморфизмом гена EGR2 [3]. Пик заболеваемости приходится на второе десятилетие жизни, что характерно для 80 % больных этой опухолью [4]. В возрасте менее 5 лет и старше 30 лет СЮ встречается крайне редко. Соотношение больных мужского и женского полов – 1.5:1 [5]. Среди возрастной категории от 10 до 19 лет частота заболевания достигает 10 случаев на 1 млн [6]. Для СЮ характерно быстрое метастазирование опухоли. Метастазы, чаще всего в легких, обнаруживаются у четверти первичных пациентов и являются наиболее значимым фактором прогноза [4].
Классификация недифференцированных мелкоклеточных круглоклеточных сарком Злокачественные опухоли, происходящие из мезенхимальных клеток, имеют схожие морфологические и иммунофенотипические характеристики, что существенно затрудняет дифференциальную диагностику, особенно в группе недифферен- цированных мелкоклеточных сарком. За 8 лет со времени 4-го издания до публикации 5-го, последнего, издания классификации опухолей мягких тканей и костей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [7] появилось много новых сведений в области молекулярной биологии, учтенных в 5-м издании и позволивших оптимизировать диагностические критерии. В последнем издании выделена глава «Недифференцированные мелкоклеточные круглоклеточные саркомы кости и мягких тканей», в которую кроме СЮ включены еще 3 заболевания, называвшихся ранее юингоподобными саркомами – саркома с реаранжировкой CIC, саркома с повреждениями гена BCOR и группа круглоклеточных сарком со слиянием генов EWSR1–non-ETS. Комбинация современных морфологических, клинических, иммуногистохимических (ИГХ) и молекулярных данных позволяет установить правильный диагноз в большинстве случаев.
Морфологические, молекулярные и генетические особенности саркомы Юинга
Классический опухолевый субстрат СЮ представляет собой диффузный инфильтрат из мелких круглых клеток с выраженным хроматином и 1–3 ядрышками, бледной или прозрачной цитоплазмой. Часто встречается некроз, нередки митозы. Неклассические случаи имеют ряд особенностей. Изредка встречается опухолевый образец, сформированный совокупностью веретенообразных и овальных клеток, образующих пучкообразный или ретикулярный рисунок на гиалинизированном фоне. Еще одним поводом для диагностической ошибки является наличие периостоза, что может стать причиной трактовки морфологической картины в пользу мелкоклеточной остеосаркомы. В биоптатах мягкотканой опухоли иногда можно встретить пятнистый эпителиоидный субстрат в виде тесно прилегающих островков из круглых клеток на фоне склероза. Этот вариант можно ошибочно принять за нейроэндокринную опухоль, особенно при локализации опухоли в грудной или абдоминальной полостях. В мягкотканой опухоли можно встретить также нейроэктодермальный вариант опухоли, представленный розетками Гомера–Врайта (Homer–Wright). Эти розетки состоят из дифференцированных опухолевых клеток, которые группируются вокруг центров, образуемых нейтрофилами. Такая гистологическая картина может быть ошибочно принята за нейробластому или нейроэндокринную опухоль. Могут также встречаться крупноклеточные образцы так называемой «атипичной саркомы Юинга». Еще одним редким вариантом СЮ является альвеолярный тип роста опухоли, имеющий морфологическое сходство с альвеолярной рабдомиосаркомой [8].
Целью ИГХ-исследования является либо подтверждение СЮ, либо ее исключение в случаях морфологического сходства с другими саркомами. Характерной для СЮ является сильная диффузная экспрессия CD99 на мембране. Тем не менее экспрессия CD99 не является уникальной для СЮ и может обнаруживаться и при других опухолях, однако с гораздо меньшей интенсивностью экспрессии. В 90–93 % случаев обнаруживается более специфичная для СЮ экспрессия ядерного NKX2.2, который также может быть позитивным при других опухолях, например, при меланоме, мезенхимальной хондросаркоме и мелкоклеточной карциноме. NKX2.2 является фактором транскрипции, играющим важную роль в развитии и дифференциации центральной нервной системы, гастроинтестинальных и панкреатических эндокринных клеток [9]. Для большинства случаев СЮ характерна также экспрессия ядерного PAX7, который может определяться и при BCOR-CCNB3 саркоме, рабдомиосаркоме, синовиальной саркоме. PAX7 представляет собой фактор транскрипции, необходимый для развития стволовых клеток мышечной ткани у взрослых и экспрессируется у 90–99 % больных СЮ [10]. Хотя при одновременной экспрессии CD99, NKX2.2 и PAX7 специфичность для СЮ повышается, такой профиль может наблюдаться и при саркомах со слиянием EWSR1-NFATc2 [11].
Безусловно, типичные морфологические и иммунофенотипические характеристики опухолевых клеток, особенно выраженная диффузная экспрессия CD99, позволяют отнести исследуемый образец к СЮ. В свою очередь, достоверность диагноза повышается при обнаружении транслокации/ слияния части генов EWSR1 с генами семейства
ETC, определяемой методом FISH. Однако даже отрицательный результат FISH не исключает СЮ. Кроме того, реаранжировка EWSR1 может встречаться и в других опухолях мезенхимального происхождения [12].
Отличительным генетическим признаком СЮ является хромосомная транслокация t(11;22) (q24;q12) с вовлечением гена EWSR1 (Ewing Sarcoma Breakpoint Region 1) на хромосоме 12 и гена FLI1 (Friend Leukemia Virus Integration 1) на хромосоме 11. В результате этой транслокации происходят слияние генов EWSR1 и FLI1 и, как следствие, выработка патологического протеина, запускающего процесс злокачественной трансформации клетки. Слияние EWSR1-FLI1 встречается приблизительно в 90 % случаев СЮ, особенно костных [13].
Следует заметить, что в диагностические критерии классификации ВОЗ не включены генетические особенности даже в случаях конкретных молекулярных типов опухоли. Необходимыми для установления диагноза СЮ считаются гистологическая и ИГХ верификации, оставляя определение статуса слияния генов для особо диагностически трудных случаев. Утверждение достаточности фенотипического исследования было сделано, прежде всего, для широкой доступности классификации в клинике. Даже для хорошо оснащенных медицинских учреждений морфологическое исследование опухолевой ткани остается ведущим методом для установления диагноза СЮ, позволяющим иногда преодолевать затруднения, связанные с трактовкой результатов молекулярных исследований.
Клинические проявления, стадирование саркомы Юинга
Саркома Юинга – быстро растущая опухоль, клинические проявления которой чрезвычайно разнообразны и зависят от локализации опухоли, ее размеров и агрессивности роста.
Для костной СЮ первым клиническим проявлением обычно бывает постоянная ноющая боль в области поражения, усиливающаяся ночью [14]. При локализации опухоли в позвонках появлению боли могут предшествовать неврологические расстройства. Саркома Юинга может развиться в любой из костей, однако чаще всего поражаются длинные кости (диафизы и метафизы), ребра и кости таза. Наиболее часто СЮ развиваются в бедренных костях (41 %), реже всего поражаются кости черепа (2 %). Мягкотканая СЮ развивается, прежде всего, в области корпуса тела (32 %), далее с убывающей частотой идут конечности (26 %), голова и шея (18 %), ретроперитонеальное пространство (16 %). На другие области приходится 9 % случаев мягкотканой СЮ.
При локализации опухоли ближе к поверхности тела, особенно при распространении ее за пределы кости, она может быть обнаружена при пальпации тканей в области боли. При большом объеме опухоль может изменять контуры тела. Такие мягкотканые образования обычно окружают опухолевый очаг в кости и могут превышать размеры самого костного поражения [15]. Наличие таких симптомов, как лихорадка, общая слабость и потеря массы тела, может быть признаком распространенного процесса и метастазирующей опухоли [16].
Оценка распространенности опухоли проводится до морфологического подтверждения диагноза исследованием материала, полученного с помощью биопсии. Однако первым методом исследования при подозрении на опухолевое поражение кости является, как правило, традиционная рентгенография патологически измененной области. На снимках можно увидеть литический или смешанный литически-бластический очаг остеодеструкции с признаками инвазивного роста. Приблизительно в половине случаев встречается периостальная реакция, которая может иметь отображение в виде слоистых образований («луковичный» периостоз), или формировать отростки наподобие лучей, либо распространяться с образованием «треугольника Кодмана». Часто можно обнаружить также мягкотканые массы, равномерно окутывающие кость в области ее поражения. Эти внекостные компоненты могут образовываться как при наличии дефекта кортикальной кости, так и при целостности контура кости. Более точную информацию позволяет получить КТ всей анатомической области, в которой локализован опухолевый очаг.
Информации, полученной с помощью КТ, обычно достаточно для проведения биопсии опухоли. Применяется, как правило, трепан-биопсия, однако может быть использована также эксцизионная биопсия [17]. Трепан-биопсия осуществляется с помощью игл различной конструкции, предназначенных для захвата образца опухолевой ткани. После выбора мишени для игольной биопсии процесс ее выполнения контролируется с помощью КТ. Получение нескольких образцов опухоли повышает вероятность установления правильного диагноза.
Более точная информация относительно локальных особенностей СЮ может быть получена с помощью МРТ, обладающей высокой чувствительностью относительно как костных, так и мягкотканых опухолей. По данным метаанализа A. Aryal et al. [18], МРТ всего тела может быть равноценной позитрон-эмиссионной томографии, совмещенной с КТ (ПЭТ-КТ), по показателям чувствительности, специфичности и прогностической значимости.
Учитывая агрессивный характер СЮ с высоким уровнем потребления опухолью глюкозы, высокоинформативным инструментом для оценки распространенности опухоли, особенно в отношении метастазов, является ПЭТ-КТ, превосходящая в некоторых аспектах МРТ. Основным показателем, измеряемым ПЭТ, является стандартизованный по- казатель поглощения глюкозы (standardized uptake value, SUV), уровень которого коррелирует со степенью агрессивности опухоли [19]. Данные ПЭТ-КТ при первичном стадировании СЮ могут иметь прогностическое значение. В ретроспективном исследовании J.P. Hwang et al. [20] показано влияние показателя исходной ПЭТ-КТ больных СЮ (n=34) на прогноз. Медиана выживаемости больных при SUV менее 5,8 составила 1 265 дней, в то время как при SUV более 5,8 – 656 дней. Это обстоятельство может приниматься во внимание при решении вопроса об интенсификации терапии.
Существенную роль ПЭТ-КТ играет и при оценке результатов лечения СЮ. В многоцентровом исследовании A. Raciborska et al. [21] сопоставлены данные ПЭТ, проведенной после индукционной химиотерапии (ХТ), с прогнозом заболевания у 50 больных СЮ. Медиана SUV при стадировании (SUV I) и после индукционной ХТ (SUV II) составила 5 и 1,8 соответственно. Значение SUV II существенно коррелировало с прогнозом. Положительное прогностическое значение SUV II≤2,0 для благоприятного прогноза составило 84 %, тогда как у больных с прогрессированием заболевания медиана SUV II была значительно выше (2,3 vs 1,6). Схожие результаты получены в работе L. Andreani et al. [22], в которой лучший результат лечения получен у больных СЮ, у которых разница между исходным и посттерапевтическим SUV превышала 4,7 (63 %).
Наиболее убедительным фактором прогноза, коррелирующим с выживаемостью без прогрессирования, является гистологическая оценка ответа опухоли на лечение, основанная на подсчете доли опухолевых клеток после индукционной ХТ. Этот параметр используется для решения вопроса о выборе дальнейшей терапии. Вместе с тем, гистологический ответ может быть определен только после хирургического лечения, в то время как успешность индукционной ХТ могла бы повлиять на решение относительно оперативного лечения с сохранением конечности. Кроме того, получение гистологического ответа исключено при замене хирургического лечения лучевой терапией (ЛТ), что бывает в 20–40 % случаев СЮ [23].
В то время как МРТ является эффективным методом оценки локальной СЮ, позволяя определить распространенность опухоли на соседние структуры, ее способность отделять истинную опухолевую ткань от некротических масс, сдавленных опухолью тканей, и сопутствующего воспалительного процесса ограничена. В метаанализе T. Kubo et al. [24] чувствительность и специфичность МРТ в оценке ответа остеосаркомы и СЮ на химиотерапию составили 73 и 83 % соответственно.
В этом отношении ПЭТ-КТ, более точно регистрирующая собственно опухолевую ткань, имеет преимущество перед МРТ в качестве приемлемой замены гистологического параметра оценки ответа опухоли на ХТ. Возможность ПЭТ-КТ служить суррогатом гистологической оценки ответа СЮ на лечение показана в метаанализе, проведенном российскими исследователями M. Yadgarov et al. [25]. Авторами отмечено, что данные ПЭТ-КТ, проводимой на разных этапах терапии больных СЮ, имеют большую прогностическую ценность по сравнению с исходной оценкой. В исследовании A. Annovazzi et al. [26] уменьшение метаболических параметров ПЭТ-КТ после индукционной терапии, выраженное в процентах, коррелировало с результатами гистологической оценки эффективности терапии, показав 100 % чувствительность и 78 % специфичность.
Метастазы, оказывающие наиболее значимое влияние на прогноз заболевания, обнаруживаются при первичном обследовании приблизительно у трети больных СЮ. Наличие метастазов существенно влияет на тактику лечения, требуя более интенсивного лечения, поэтому раннее выявление метастазов является критически важным. В то время как метастазы СЮ в легких диагностируются с помощью лучевых методов диагностики, для обнаружения метастазов в костном мозге используется еще и биопсия костного мозга (трепанбиопсия и аспирационная биопсия). Вопрос о том, могут ли лучевые методы диагностики заменить биопсию костного мозга, все еще остается открытым.
В многоцентровом французском исследовании проведена сравнительная оценка эффективности ПЭТ-КТ и рутинной аспирационной биопсии костного мозга в отношении выявления метастазов СЮ в костном мозге/костях. У 19 из 42 больных СЮ (45 %) первичная опухоль была в костях таза. Метастатическое поражение костного мозга/кости выявлено у 35 (83 %) пациентов. ПЭТ-КТ показала 100 % специфичность и 83,3 % чувствительность, достигнув 100 % точности и превысив аналогичные показатели для аспирационной биопсии костного мозга, что позволило сделать вывод о том, что при проведении ПЭТ-КТ отсутствует необходимость выполнения аспирационной биопсии костного мозга [27].
K.M. Campbell et al. [28] осуществили систематический обзор результатов первичного обследования 1 663 больных СЮ. Частота метастатического поражения костного мозга во всем контингенте больных составила 4,8 %, а среди пациентов с радиологическими признаками других метастазов – 17,5 %. Чувствительность и специфичность ПЭТ-КТ относительно обнаружения метастазов в костный мозг достигла 100 и 96 %. Значения положительной и отрицательной прогностической значимости составили 75 и 100 % соответственно. На основании полученных результатов авторами высказано мнение о нецелесообразности использования рутинной биопсии костного мозга у больных СЮ при наличии данных ПЭТ-КТ. Проведя ретроспективную оценку результатов первичного обследования 180 больных СЮ, такое же мнение высказали A. Guenot et al. [29], несмотря на то, что среди 13 случаев морфологического/цитологиче-ского обнаружения метастазов СЮ в костном мозге результаты ПЭТ-КТ у одного из них относительно костного мозга были отрицательными.
Хотя имеющиеся данные свидетельствуют о том, что при отсутствии признаков поражения костного мозга при ПЭТ-КТ биопсии костного мозга можно избежать, выполнение морфологи-ческого/цитологического исследований биоптатов костного мозга все еще остается обязательным для всех больных СЮ, что отражено в текущих клинических рекомендациях.
Лечение больных саркомой Юинга
Планирование лечения взрослых больных СЮ проводится командой специалистов, включающей хирурга-онколога, химиотерапевта, радиотерапевта и хирурга-ортопеда. Стандартное лечение больных СЮ с отсутствием признаков метастазов включает индукционную (неоадъювантную) ХТ, хирургическое лечение и/или лучевую терапию с последующей адъювантной ХТ. Лучевая терапия (ЛТ) применяется, как правило, в случаях, когда возможность адекватного хирургического лечения представляется сомнительной.
Несмотря на отсутствие существенных различий в терапии, результаты лечения взрослых больных СЮ уступают таковым у детей. O.I. Hajjaj et al. [30] проанализировали результаты лечения взрослых (n=66, возраст ≥18 лет) и детей (n=41), получивших лечение в период с 2000 по 2018 г. в медицинских центрах Канады. Пятилетняя общая выживаемость (ОВ) в общей когорте среди взрослых составила 58 %, среди детей – 75 %, у больных локальной СЮ – 74 и 84 % соответственно.
Лекарственная терапия
Саркома Юинга в подавляющем большинстве случаев чувствительна к ХТ. Целью индукционной ХТ является уменьшение объема опухолевой массы, воздействие на субклинические метастазы и снижение риска распространения опухоли после хирургического этапа терапии. Почти все современные схемы ХТ включают в себя базовые цитостатики, эффективные в отношении СЮ, – винкристин, циклофосфан, доксорубицин, этопозид, ифосфамид. Как это часто бывало в истории ХТ, многокомпонентные схемы цитостатиков, разработанные еще в 1970-х гг., сохраняют свое ведущее значение вплоть до настоящего времени. Одной из первых комбинаций того периода стала схема VACA (винкристин, актиномицин-D, циклофосфан и адриамицин), показавшая высокую результативность по сравнению с другими существовавшими в то время схемами ХТ [31]. В тот же период схема VACA была преобразована в схему VDC (винкристин, доксорубицин, циклофосфан). Вслед за этим было показано, что циклофосфан и этопозид (схема IE), перемежающиеся со стандартной VDC, заметно улучшили показатели бессобытийной выживаемости (БВ) и ОВ у больных с локализованной СЮ до 69 и 72 % соответственно [32].
Исследователи пытались повысить результаты лечения интенсификацией доз, сокращением времени межцикловых интервалов, а также расширить имеющийся арсенал цитостатиков, применяемых для лечения больных СЮ. L. Granowetter et al. [33] проведено сравнение эффективности эскали-рованной по дозам схемы VDC/IE, проводимой в течение 30 нед (11 циклов), со стандартной VDC/ IE, курс лечения которой длился 48 нед (17 циклов). В исследование были набраны больные СЮ с отсутствием метастазов (n=478). Эффективность лечения оценена по показателям 5-летней БВ и ОВ, оказавшимся одинаковыми в обеих группах, при этом токсичность в группе эскалации была существенно выше.
Несколько позже в американском исследовании Children`s Oncology Group проведено сопоставление эффективности терапии по схеме VDC/IE с межцикловыми интервалами 3 нед и сжатыми до 2 нед в общей когорте из 568 больных СЮ без признаков метастазов. В обеих равноценных ветвях рандомизированного исследования было проведено по 14 циклов терапии. По мнению авторов, сокращение межцикловых интервалов обеспечило 25 % повышение интенсивности дозового воздействия. Пятилетняя БВ показала ощутимое превосходство схемы со сжатыми межцикловыми интервалами (65 и 73 % соответственно). Важным обстоятельством явилось то, что преимущество схемы с сокращенным межцикловым периодом не сопровождалось значимым повышением токсичности [34]. Обнадеживающими оказались и долговременные результаты: 10-летняя БВ снизилась в обеих группах незначительно – до 61 и 70 %, а ОВ – до 69 и 76 % соответственно, при этом кумулятивная частота вторых опухолей в обеих группах оказалась одинаковой [35]. Однако необходимо отметить, что пациенты старше 18 лет составляли всего 11 % (n=62) от всей когорты, а 5-летняя БВ в этой возрастной группе была значительно хуже, чем у больных моложе 18 лет (47 и 72 % соответственно). Тем не менее через 10 лет после терапии БВ пациентов старшей возрастной группы в когорте терапии с сокращенным межцикловым интервалом оказалась существенно выше (53 %) по сравнению с когортой без сокращения (37 %).
С того времени схема VDC/IE с 2-недельными межцикловыми интервалами стала в США стандартом терапии больных СЮ без метастазов. Таким образом, интенсификация стандартных схем терапии оказалась успешной только за счет сокращения межцикловых периодов.
В рандомизированном исследовании P.J. Leavey et al. [36] была оценена эффективность добавления к основным препаратам топотекана. Из 642 больных СЮ без признаков метастазов 309 получили стандартную ХТ по схеме VDC/IE в количестве 17 циклов. Экспериментальную схему с включением топотекана (VTC – винкристин, топотекан, цикло-фосфан) в количестве 5 циклов в дополнение к 17 циклам стандартной терапии получили 320 больных. По индексам 5-летней БВ и ОВ оказалось, что добавление к стандартной терапии схемы VTC не привело к повышению эффективности лечения.
По такому же сценарию в Бразилии проведено кооперированное исследование эффективности и безопасности собственной схемы ХТ с включением карбоплатина. Цель работы состояла в оценке приемлемости этой схемы в качестве стандарта лекарственного лечения больных СЮ. В когорту было набрано 175 больных СЮ в возрасте менее 30 лет, из которых 39 % имели метастазы опухоли. Индукционная терапия включала в себя 2 цикла по схеме ICE (ифосфамид, карбоплатин и цикло-фосфан) и 2 цикла VDC. После хирургического лечения больные с низким риском (локализованное заболевания с полной резекцией опухоли и нормальным уровнем лактатдегидрогеназы) получили 10 циклов терапии VDC/IE, больным с высоким риском (n=123; 70 % всей когорты) проведено 2 цикла ICE. Пятилетняя БВ и ОВ составили 51 и 54 % [37]. Авторы констатировали удовлетворительную переносимость лечения и соответствие результатов таковым в Европе и США. К сожалению, дизайн исследования не позволил оценить вклад в эффективность лечения непосредственно карбоплатина.
В течение длительного времени основные схемы индукционной ХТ в США и Европе различались. В то время как в США и Канаде применялась схема VDC/IE, в Европе традиционно доминировала схема VIDE (винкристин, ифосфамид, доксорубицин, этопозид), лучшей стратегией выполнения которой также является максимально возможное сжатие межциклового интервала [38]. С целью сравнения эффективности этих двух ведущих схем индукционной ХТ, VDC/IE и VIDE в Европе был разработан протокол «EURO EWING 12», в который в 10 европейских странах с 2014 по 2019 г. было набрано 640 больных СЮ в возрасте от 2 до 49 лет, включая больных с метастазами. Трехлетняя БВ в группах лечения VIDE и VDC/IE составила 61 и 67 %, а частота фебрильной нейтропении – 74 и 58 % соответственно [39]. Таким образом, схема VDC/IE продемонстрировала преимущество не только в эффективности, но и по токсичности.
Следующим шагом на пути повышения эффективности лечения стало изучение целесообразности консолидации достигнутой ремиссии высокодозной миелоаблативной ХТ. В рамках европейских научных программ Euro-E.W.I.N.G.99 и Ewing-2008 было проведено несколько крупных мультицентровых рандомизированных исследо- ваний результативности миелоаблативной терапии с поддержкой стволовыми кроветворными клетками.
В первое из них в 2000–15 гг. набрано 240 больных СЮ моложе 50 лет с локализованным заболеванием высокого риска вследствие плохого гистологического ответа (≥10 % опухолевых клеток) или большого объема первоначальной опухоли (≥200 см3), не резецированной либо резецированной до или после радиотерапии. Индукционная терапия проводилась по схеме VIDE (6 циклов) и VAI (винкристин, дактиномицин и ифосфамид, 1 цикл), после чего больные были рандомизированы на продолжение ХТ либо по схеме VAI (n=118) в количестве 7 циклов, либо на высокодозную терапию по схеме BuMel (бусульфан, мелфалан, n=122) с поддержкой стволовыми клетками. Трехлетняя БВ составила 56,0 и 69,0 %, 8-летняя – 47,1 и 60,7 %; 3-летняя ОВ – 72,2 и 78,0 %, 8-летняя – 55,6 и 64,5 % соответственно. Авторы пришли к выводу о целесообразности высокодозной консолидации по схеме BuMeL у этой категории больных СЮ [40].
В исследование «Ewing 2008R3» с 2009 по 2018 г. было включено 109 больных СЮ с диссеминированным заболеванием, за исключением пациентов с метастазами в легких. После индукционной (6 циклов по схеме VIDE) и консолидирующей терапии (8 циклов VAC) пациенты рандомизированы в группу высокодозной терапии треосульфаном и мелфаланом (TreoMel) с поддержкой стволовыми клетками (n=55) и в контрольную группу без дальнейшего лечения. Трехлетняя БВ была достигнута у 20,9 % больных в группе TreoMel и у 19,2 % – в группе контроля. По сравнению с группой контроля лишь некоторое преимущество оказалось у мужчин; гораздо большая 3-летняя БВ (39,3 %) была в подгруппе больных в возрастной категории ≤14 лет, составлявших меньшинство всей когорты [41]. Таким образом, больные СЮ с костными метастазами преимущества от высокодозной консолидации не получили.
Возможности высокодозной миелоаблативной терапии больных СЮ с метастазами в легких были оценены U. Dirksen et al. [42]. С 2000 по 2015 г. в исследование было набрано 543 больных, получивших терапию по схеме VIDE (6 циклов) и 1 цикл VAI (винкристин, дактиномицин, ифосфамид), после чего 287 из них были рандомизированы в 2 количественно равные группы, в одной из которых пациенты получали 7 циклов VAI + тотальное облучение легких (ТОЛ), в другой – высокодозную терапию BuMel (бусульфан и мелфалан) с поддержкой стволовыми клетками. В группах VAI + ТОЛ и BuMel 3-летняя БВ составила 56,6 и 50,6 %, 8-летняя – 52,9 и 43,1 % соответственно. От обусловленной BuMel токсичности умерли 4 пациента, в то время как в группе VAI + ТОЛ смертей вследствие терапии не было. Серьезная токсичность в группе BuMel регистрировалась гораздо чаще.
Авторы исследования пришли к выводу о равноценности результатов лечения больных в обеих группах.
Попытка комбинирования у больных СЮ с метастазами в легких ТОЛ и миелоаблативной терапии также не увенчалась успехом. В совместном итало-скандинавском исследовании высокодозная терапия по схеме BuMel проводилась после индукционной ХТ и облучения легких. Из 102 больных СЮ полное лечение в соответствии с протоколом удалось реализовать только у половины пациентов. Хотя 5-летняя ОВ была близка к 50 %, лечение сопровождалось серьезными осложнениями, включая развитие вторичного острого миелоидного лейкоза. Авторы отметили, что такое лечение может быть проведено только в высокоспециализированных центрах [43].
Таким образом, имеющиеся сведения относительно целесообразности применения ТОЛ для лечения больных СЮ с метастазами в легких и плевре не позволяют уверенно судить о том, дает ли ТОЛ преимущество [44].
Еще одним направлением повышения эффективности лечения первичных больных СЮ является поддерживающая лекарственная терапия, проводимая после успешной стандартной ХТ и хирургического/лучевого лечения. До настоящего времени клинических исследований относительно поддерживающей терапии больных СЮ проведено крайне мало. Сведения, имеющиеся в литературе, касаются в основном клинических случаев с небольшим сроком наблюдения (не более 1 года).
В одном из крупных исследований моноклональное антитело ганитумумаб (ингибитор фактора роста инсулина), показавшее действенность против СЮ в доклинических исследованиях, оказалось неэффективным в качестве поддерживающего лечения после выполнения индукционной программы по схеме VDC/IE в достаточно больших (n=150) когортах сравнения [45]. В европейском протоколе CWS-2002P часть больных мягкотканой СЮ после индукционной и локальной терапии получила поддерживающее лечение циклофосфа-ном и винбластином. В ветвь поддерживающего лечения были отобраны 11 пациентов, достигших полной ремиссии. Несмотря на очень хороший результат лечения во всей группе, оценить статистическую значимость поддерживающий терапии не удалось из-за малого количества пациентов в этой ветви [46].
Вместе с тем, проведенное относительно недавно многоцентровое исследование поддерживающей терапии у больных одной из мезенхимальных опухолей (рабдомиосаркома) показало обнадеживающие результаты, что может побудить к проведению аналогичных работ и в отношении СЮ. В течение 2006–16 гг. в исследование был набран 371 больной рабдомиосаркомой с неблагоприятными признаками. После базовой 6-месячной терапии, состоявшей из 9 циклов ифосфамида, винкристина, дактиномицина и доксорубицина с последующим хирургическим или лучевым лечением, больные, достигшие ремиссии, были рандомизированы на 2 равноценные группы, в одной из которых продолжения лечения не последовало, в другой ХТ была продолжена в качестве поддержки ремиссии (6 циклов винорельбина и эндоксана). Безрецидивная 5-летняя выживаемость в группах поддерживающей терапии и без нее составила 77,6 и 69,8 %, ОВ – 86,5 и 73,7 % соответственно [47].
Как бы то ни было, поиски вариантов эффективного поддерживающего лечения СЮ могут служить основой для клинической оценки новых лекарственных препаратов. В настоящее время проводится множество доклинических и клинических (ранние фазы) исследований противоопухолевой активности препаратов молекулярного действия. Наиболее перспективными из них представляются тирозинкиназы, обладающие антиангиогенной активностью, в первую очередь регорафениб (regorafenib) и кабозантиниб (cabozantinib). Как правило, эти препараты изучаются при рецидивах СЮ, где показывают некоторую эффективность, однако их применение сопровождается значительной токсичностью [48]. Тем не менее в настоящее время проводится несколько исследований II фазы по применению регорафениба в качестве поддерживающего лечения больных СЮ, а также в первой линии терапии с перспективой объединения регорафениба с ХТ по схеме VDC/IE.
В настоящее время проводятся исследования, в которых изучается эффективность сочетания цитостатиков с ингибиторами репарации ДНК, ингибиторами молекул клеточного цикла, с аутологичными вакцинами. Препятствием для относительно быстрого получения объективных результатов этих работ является малое количество больных, что повышает значимость многоцентрового набора. Кроме того, получение разрешения на клинические исследования применения новых препаратов при СЮ сопряжено с повышенными требованиями, обусловленными тем, что большинство больных СЮ детского и подросткового возраста.
Хирургическое лечение
Приоритет в последовательности локального лечения СЮ принадлежит операциям, проводимым после индукционной ХТ [49]. Исключением являются случаи неотложных вмешательств, например при сдавливании опухолью спинного мозга. R.C. Shamberger et al. [50] в крупном ретроспективном исследовании показали, что частота резекций в пределах тканей, не пораженных опухолью, оказалась существенно выше при операциях после индукционной ХТ, чем до нее (77 и 50 % соответственно). Кроме того, резекция опухоли после индукционной ХТ снизила необходимость проведения послеоперационной ЛТ почти в 2 раза.
Как правило, оперативное лечение СЮ эффективнее ЛТ. S.K. Ahmed et al. [51] в ретроспективном исследовании установили, что хирургическое лечение опухоли превосходит результаты, достигаемые ЛТ: локальные рецидивы после резекции опухоли встречались реже, чем после ЛТ (за исключением осевой локализации и мягкотканых опухолей), – у 3,9 и 15,3 % больных СЮ соответственно.
Тем не менее выбор резекции в качестве первого локального воздействия на опухоль не является однозначным и зависит от локализации и размеров опухоли, степени ее регрессии в результате ХТ, возраста пациента и, наконец, от предпочтения пациента после полного его информирования о вариантах лечения [52]. Основная задача оперативного лечения опухоли заключается в удалении всей ее массы. В идеале мягкотканая опухоль должна быть резецирована полностью с захватом 2 см непораженных тканей, а при резекции костной опухоли – 5 см интактной костной ткани. Удалению подлежит не только сама опухоль, но и ткани тракта игольной или инцизионной биопсии. Частичное удаление опухоли с целью уменьшения ее массы крайне нежелательно, так как повышает вероятность развития локального рецидива и, как следствие, влечет за собой снижение выживаемости. Кроме того, при удалении опухоли принимается во внимание размер, который она имела до индукционной ХТ [53].
Хирургическое лечение СЮ конечностей объединяет две задачи – оптимальное удаление опухоли и сохранение функции конечности. Ампутация показана только тогда, когда резекция опухоли в пределах непораженных тканей не представляется возможной [54]. Большинство пациентов, оперированных по поводу локальных опухолей, нуждается в реконструктивной хирургии, однако необходимо помнить, что надежное резецирование опухоли имеет большее значение, чем сохранность конечности. Хирургическое лечение СЮ при наличии метастазов не должно ограничиваться удалением только основной опухоли. Резекция и/или лучевое лечение метастазов улучшает прогноз, как показано J. Haeusler et al. [55] в большом ретроспективном исследовании.
Лучевая терапия
Хотя ЛТ может быть применена до оперативного лечения СЮ, если резекция опухоли сопряжена с высоким риском осложнений [56], все же основной задачей ЛТ является послеоперационное облучение полностью удаленной опухоли с микроскопически позитивными ее краями, а также частично резецированной опухоли и в случаях неудовлетворительного гистологического ответа на индукционную ХТ [55].
В большом рандомизированном исследовании, в которое были включены 142 больных СЮ, послеоперационная ЛТ ощутимо улучшила прогноз, особенно при локализации опухоли в анатомических областях, в которых радикальное удаление опухоли представляет наибольшие сложности
(позвоночник, кости таза), а также при исходно большом объеме опухоли (более 200 мл) и обширном ее некрозе. Авторы предполагали, что при больших опухолях или с полным некрозом после ХТ шансы на полную хирургическую эрадикацию опухоли в пределах нормальных тканей крайне малы, поэтому облучение области локализации опухоли в ее границах до проведения ХТ ликвидирует этот недостаток, снижая риск локального рецидива с 12,3 до 1,7 % [57].
При невозможности выполнить оперативное лечение радикальная лучевая терапия становится единственным средством локального воздействия на опухоль. В этих случаях первоначальное поле облучения опухолевого очага формируется по границам опухоли до индукционной ХТ, а подводимая СОД составляет 45 Гр. Далее проводится дополнительное облучение (буст) через поле, уменьшенное до границ опухоли после индукционной ХТ, до подведения максимальной СОД 55–56 Гр.
M. Kacar et al. [58] исследована целесообразность дальнейшей эскалации СОД для опухолей, размер которых во время установления диагноза превышал 8 см. Использовав облучение фотонами, авторы добились снижения частоты локальных рецидивов при приемлемой токсичности облучения. S. Laskar et al. [59] исследованы возможность и эффективность эскалации СОД у больных СЮ с нерезецируемой опухолью, в которой пациенты были рандомизированы на подведение к опухоли стандартной СОД облучения (55,8 Гр) и эскалиро-ванной до 70,2 Гр. Пациенты (n=95) рандомизированы на две количественно равноценные группы. Уровень 5-летнего локального контроля в группе эскалации СОД существенно превышал таковой в группе стандартной СОД – 76,4 и 49,4 %. Отсутствие значимого различия в 5-летней безреци-дивной и ОВ между группами (46,7 и 31,8 %; 58,8 и 45,4 % соответственно) авторы отнесли на счет большой доли больных с метастазами.
Стандартом локальной терапии внелегочных метастазов является резекция метастазов с последующей ЛТ [55]. При метастатическом поражении легких и/или плевры проводится тотальное облучение легких (ТОЛ) в СОД 15–18 Гр. В совместном исследовании трех научных европейских групп ТОЛ было проведено 75 из 114 больных СЮ с метастазами в легких и/или плевре, что привело к существенному превосходству в 5-летней безре-цидивной выживаемости в группе ТОЛ (38 и 27 % соответственно) [60]. При правильном выполнении условий облучения частота лучевого пульмонита не превышает 1,8 % [61].
Тотальное облучение легких осуществляется обычно с использованием 2-мерного планирования. Проводились также исследования эффективности и безопасности облучения с модулированием интенсивности, позволяющего уменьшить дозу облучения сердца, спинного мозга и молочных желез, однако эта технология облучения все еще не включена в клинические рекомендации. Проведение ЛТ после успешно выполненного оперативного удаления опухоли с отсутствием опухолевой инфильтрации краев резецированной опухоли нецелесообразно [62].
Лечение рецидивов саркомы Юинга
Несмотря на относительную успешность первичной терапии пациентов с СЮ, рецидивы развиваются у четверти больных с локализованным заболеванием и у 70 % больных с метастазами; результаты лечения их далеки от удовлетворительных, 5-летняя ОВ, как правило, не превышает 15 % [63]. При развитии рецидива важнейшим прогностическим фактором является продолжительность безрецидивного периода. По данным Children`s Oncology Group (США), 5-летняя ОВ больных СЮ с рецидивами, зарегистрированных в течение 2 лет после первичной терапии, не превышает 7 %, в то время как у больных с более поздними рецидивами она достигает 30 % [64]. Кроме того, прогностическое значение имеют также распространенность рецидива и локализация очагов опухоли.
В течение двух последних десятилетий проводятся нерандомизированные исследования схем ХТ, образованных в основном различными комбинациями таких цитостатиков, как иринотекан, темозоломид, винкристин, циклофосфан, топоте-кан, ифосфамид, гемцитабин, доцетаксел. Чаще всего оцениваются схемы Gem-Doc (гемцитабин, доцетаксел), Topo-Cyc (топотекан, циклофосфан), Irn-Tmz (иринотекан, темозоломид), HD-IFO (вы-сокодозный ифосфамид).
В европейском мультицентровом исследовании сравнительной эффективности этих четырех схем ХТ при промежуточном анализе получены данные о том, что лечение по схеме Gem-Doc показало худший результат и было прекращено. Вместе с тем, было показано, что наиболее вероятным является превосходство ифосфамида над комбинацией топотекана и циклофосфана, а пара гемцитабина с иринотеканом эффективнее сочетания гемцитабина с доцетакселом. Эти предварительные сведения представлены пока в виде постеров на ежегодных съездах ASCO (American Society of Clinical Oncology) в 2020–22 гг.
В свою очередь, J. Xu et al, добавив к темозоломиду и иринотекану винкристин, определили, что оптимальным расписанием этой схемы (VIT) является более длительное ее выполнение [65]. В настоящее время в процессе выполнения находится крупнейшее мультицентровое исследование с участием 570 больных СЮ с рецидивом или рефрактерным заболеванием, целью которого является сравнение эффективности комбинации ифосфа-мида и ленватиниба с сочетанием ифосфамида, карбоплатина и этопозида [66].
Имеющиеся данные об эффективности высоко-дозной миелоаблативной терапии с поддержкой аутологичными стволовыми клетками, а также аллогенной трансплантации противоречивы. CAR-T клеточная терапия сарком, включая СЮ, не показала сколько-нибудь значимую эффективность в связи с ограниченной способностью перепрограммированных Т-клеток инфильтрировать опухоль и иммуносупрессирующим микроокружением в ткани опухоли [67].
Роль локальной терапии при рецидивах СЮ также имеет значение. При локальном рецидиве должна рассматриваться допустимость радикальной резекции метастаза, за возможным исключением метастазов в легких, сведения относительно целесообразности которой противоречивы. Так- тика применения ЛТ остается такой же, как и при первичном заболевании.