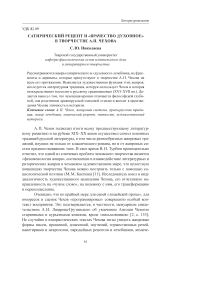Сатирический рецепт и «врачество духовное» в творчестве А.П. Чехова
Автор: Николаева Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются жанры сатирического и «духовного» лечебника, их фрагменты и дериваты, которые присутствуют в творчестве А.П. Чехова на всем его протяжении. Выявляется художественная функция этих жанров, исследуется литературная традиция, которую использует Чехов и которая непосредственно восходит к русскому средневековью (XVI-XVII вв ). Делается вывод о том, что чеховская ирония отличается философской глубиной, она родственна древнерусской смеховой стихии и вносит в произведения Чехова эпичность и историзм.
А.п. чехов, жанровая система, древнерусская традиция, жанр лечебника, комический рецепт, эпичность, художественный историзм
Короткий адрес: https://sciup.org/146281572
IDR: 146281572 | УДК: 82.09
Текст научной статьи Сатирический рецепт и «врачество духовное» в творчестве А.П. Чехова
А. П. Чехов подводил итоги всему предшествующему литературному развитию и на рубеже XIX–XX веков осуществил синтез основных традиций русской литературы, в том числе разнообразных жанровых традиций, идущих не только от классического романа, но и от жанровых систем предшествовавших эпох. В свое время В. Н. Турбин проницательно отметил, что одной из ключевых проблем чеховского творчества является «феноменология жанра», соотношение и взаимодействие литературных и риторических жанров в чеховском художественном мире, что целостную концепцию творчества Чехова можно построить только с помощью социологической поэтики (М. М. Бахтина) [11]. Исследователь имел в виду диалогичность художественного мышления Чехова, его отчетливую направленность на «чужое слово», на полемику с ним, его трансформацию и переосмысление.
Очевидно, что по крайней мере для своей «лицейской прозы», для юморесок и сценок Чехов «программировал» совершенно особый контекст восприятия. Это подтверждается, в частности, мемуарным свидетельством А. И. Лазарева-Грузинского об увлечении Антоши Чехонте старинными и курьезными книгами, вроде «письмовников» [2, с. 153]. Не случайно в юмористических текстах Чехова легко увидеть жанровые формы писем, прошений, донесений, поучений, торжественных речей, панегириков и некрологов, пародийных рецептов и лечебников, комиче- ских словарей, ведомостей, календарей, реклам и объявлений, судебных документов, фрагментов богослужения и церковных книг.
Эта уникальная система жанров, которые имитировали и пародировали систему «первичных речевых жанров» [3, с. 237], восходит к литературе XVIII в., к сатирической журнальной прозе Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, а также – через их посредство – к демократической сатире XVII в., которая стала проявлением народной смеховой культуры. Для Чехова, очевидно, оказались актуальными и просветительские идеалы писателей XVIII в., и в особенности стихия народного смеха, отрицавшая все косное, канонизированное, официозное, и художественный потенциал риторических жанров, изменивших под его пером свою функцию и статус.
У Чехова, полагавшего, что «человек должен постоянно если не вылезать, то выглядывать из своей раковины, и должен он мудрствовать всю свою жизнь, иначе то уже будет не жизнь, а житие» [13, т. 9, с. 216], объектом переосмысления и «точкой опоры» в собственном литературном эксперименте могла стать только та художественная традиция, которая содержала некую концепцию человека, некий взгляд на мир. Несомненно, такая концепция присутствовала в старинных «Лечебниках», которые Чехов хорошо знал и как врач, и как историк медицины, и как любитель старинной книжной культуры.
Форма лечебника, рецепта, медицинского предписания, сама ситуация «врач – пациент» (одна из наиболее устойчивых комических ситуаций в истории мировой литературы [10, с. 298], не могли не заинтересовать Чехова. Он не только исчерпал в своем творчестве все художественные возможности, которые возникают в этой области, но и, как мы попытаемся показать, использовал эту литературную традицию для создания своей философии человека, для выражения своей авторской позиции.
Прежде всего следует отметить, что «Лечебник» (или «Врачебник») как сборник рекомендаций и советов медицинского свойства [5] был хорошо известен Чехову и многократно пародировался им в рассказах и юморесках. Так, например, в «Дачных правилах» (1884) указывались средства, как избежать влюбленности, нежеланного сватовства или женитьбы, нашествия друзей и родственников, ограбления и даже «превратных понятий о целях жизни и величии вселенной» [12, т. 3, с. 22–23]. «Врачебные советы» (1885) были посвящены лечению насморка, головокружения, отравления и кашля [12, т. 4, с. 154], а «Домашние средства» (1885) стали руководством по борьбе с клопами, блохами, молью, безденежьем, супружеской неверностью и начальническим гневом [Там же, с. 185–186]. Чехов смеется над житейской суетой, заслоняющей истинные понятия «о целях жизни и величии вселенной», над болезнями, которые обычно медицина не лечит (они заурядны настолько, что являются неотъемлемой частью быта, его атрибутом), над обыденными хлопотами, которые невозможно избыть. Такие стороны жизни человека, как любовь, здоровье, домашний комфорт, драматизируются, приобретают беспокойный, тревожащий характер, и чеховские «лечебники» вдруг обнаруживают свою напряженную внутреннюю диалогичность, которая впоследствии воплотится в произведениях драматического рода, эксплицируется в диалогах его персонажей. В сущности, Чехов воссоздает диалог автора и воображаемого читателя, в процессе которого подразумеваемый вопрос сокращается, редуцируется до краткой реплики, а характер спрашивающего проявляется в некоторых деталях ответа.
Например, жалующемуся на клопов дается такой совет : « От клопов . Поймай клопа и <…> дружески посоветуй ему изменить режим. Если же и последние выводы науки на него не подействуют, то тебе остается только поднять вверх палец и воскликнуть: “Косней же в злодействах, кровопийца!” и отпустить негодяя. Рано или поздно добро восторжествует над злом» [Там же, с. 185]. Ирония направлена здесь на потенциального читателя, обладающего избыточным пафосом и готовым читать проповеди даже клопам. Это насмешка над дидактизмом, доведенным до гротеска и заставляющим человека отрываться от реальной действительности. Хотя «Лечебник на иноземцев», замечательный своей поэтикой абсурда, был опубликован поздно и вряд ли мог попасться на глаза Чехову, во многих его юморесках эта поэтика блестяще схвачена и воплощена. Это можно объяснить тем, что другие памятники смеховой литературы («Роспись приданому», «Служба кабаку», «Калязинская челобитная» и другие), в которых тоже присутствовали элементы этой поэтики (оксюморон, скоморошьи небылицы, нагромождение несуществующих предметов и невозможных действий [1, с. 281], были ему хорошо знакомы. Чехов предлагает лечить насморк «настоем из “трын-травы”, пить который следует натощак, по субботам» [12, т. 4, с. 154]. От влюбленности предлагается такой рецепт: «Возьми ½ фунта александрийского листа, штоф водки, ложку скипидару, ¼фунта семибратней крови и ½фунта жженых “Петербургских ведомостей”, смешай все это и употреби в один прием» [12, т. 3, с. 22–23]. Гнев начальника может быть преодолен только так: «Возьми начальника, поведи в баню и подставь его голову под холодный душ» [12, т. 4, с. 185]. Очевидно, в последнем случае невозможность для подчиненного поместить голову начальника под холодный душ – это явление того же порядка, что и совет «потеть 3 дни на морозе нагому», вытираться «самым сухим дубовым четвертным платом» и т. п. [8, с. 121].
Любопытно, что намеки на знакомство Чехова со старинными врачебными руководствами и с книгами по истории медицины встречаются в его рассказах. Герой так может принять провизора: «Чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мази для ращения волос, а глядя на их лица, можно подумать, что они и в самом деле жрецы науки. Пишут по-латыни, говорят по-немецки… Средневековое из себя что-то корчат…» («В аптеке», 1885) [12, т. 4, с. 54]. Именно со средневековьем связывалось в сознании Чехова начало истории российской медицины и начало литературной традиции пародирования рецептов.
Конечно, у Чехова встречается и непародийное использование лечебника и его фрагментов. Так, комический эффект в рассказе «Сельские эскулапы» (1882) основывается вовсе не на мотиве абсурдного рецепта [10, с. 298], а на психологической коллизии, когда в отсутствие доктора больных в земской больнице принимает фельдшер Кузьма Егоров: лечить он не умеет и боится, но, стремясь сохранить свое реноме в глазах баб и мужиков, находит выход из положения – рекомендует всем самое безобидное и безвредное. Марье Заплаксиной от малокровия он прописывает (и вполне грамотно) раствор железа, однако в отсутствие доктора не решается начать новый флакон лекарства, распоряжаясь ограничиться старым, о чем делает приписку в рецепте. Приписка адресована аптекарю, но оказалась на бланке рецепта, отсюда обычная для чеховских юморесок путаница: «Rp. Liquor ferri 3 гр. того, что на окне стоит, а то, что на полке Иван Яковлич не велели без него распечатывать по десяти капель три раза в день Марьи Заплаксиной» [1, с. 198]. Никакого непонимания не возникает – герои говорят на одном языке, и аптекарь спрашивает: «Чего старухе-то дать? …Железо, что на окне стояло, вышло. Я распечатаю то, что на полке. – Нет, нет! Не приказывал Иван Яковлич! Сердиться будет» [12, т. 1, с. 200–201].
Чехов воссоздает социально-психологический феномен: в условиях нищеты земской больницы и страшного всеобщего невежества глуповатый фельдшер превращается в «целителя», ничтожество становится хозяином положения. Абсурден не рецепт сам по себе, а жизненная ситуация. Подобные ситуации Чехов любит варьировать: пациент с зубной болью может попасть не к зубному врачу, а к адвокату («Ах, зубы», 1886), «крепительное» может понадобиться не человеку, а индейскому петуху («Индейский петух», 1885). Уже в этих юморесках Чехов сравнивает виды боли: физическую и душевную, страдания человека и «братьев наших меньших».
Впрочем, и абсурдные рецепты в чеховских произведениях присутствуют тоже. Средствами от зубной боли могут оказаться и тертый хрен с керосином, и одеколон с чернилами, и три бутылки коньяку, и пуля в лоб [12, т. 5, с. 332], а средство от запоя способно повергнуть в трепет: в полуштоф с водкой кладется кусок грязного мыла, селитра, нашатырь, квасцы, глауберова соль, сера, канифоль и другие «специи» [12, т. 4, с. 178].
Смех в «Лечебнике на иноземцев» был направлен на иностранцев, в особенности на медиков: «Составитель “Лечебника” хорошо знает форму рецепта, но, отталкиваясь от нее, он предлагает такие способы леченья, как будто вообще не верит в медицину. Может быть, именно такая форма литературной сатиры избрана была потому, что составитель лечебника из всех иноземцев особенно не доверяет врачам и аптекарям» [1, с. 281]. Чеховский смех обращен и на незадачливых пациентов, и – реже – на докторов, и – чаще всего – на жадных и непонятливых фармацевтов и провизоров, но никогда не затрагивает медицину как науку. Герой Чехова может по неосторожности выпить керосину вместо водки («Неосторожность», 1887), его могут заставить съесть кусок хлеба «с перчиком, с перчиком» («Торжество победителя», 1883), поднести в рюмке уксусу с маслом из-под селедок («Перед свадьбой», 1880), – таковы рецепты, с помощью которых испытывает человека судьба. Именно в таком контексте возникают они у Чехова: «Ты теперь, положим, ничтожество, нуль, соринка… изюминка – а кто знает? Может быть, со временем и того… судьбы человеческие за вихор возьмешь!» [12, т. 2, с. 69]. Чтобы взять «судьбу за вихор», надо только уметь «представить трагедию», пропеть петушком, проглотить «перчику», и тогда «быть тебе помощником письмоводителя» [Там же, с. 71].
Пока хладнокровные аптекари отсчитывают капли, граны, рубли и копейки, пациентом овладевает болезнь («В аптеке»), он думает, что ему суждено умереть («Неосторожность»). Чехов как будто иллюстрирует пословицы, выписанные им из сборника И. М. Снегирева: «Аптека убавит на полвека», «Аптеками лечат, а больные кричат», «Аптекам предаться, деньгами не жаться» [12, т. 16, с. 283]. При этом юмористический тон легко превращается у Чехова в драматический. Молодая женщина, связавшая свою судьбу с провизором, обрекает себя на несчастливую жизнь, посвященную продаже мятных лепешек, соды, зельтерской воды («Аптекарша», 1886). Мотив комического рецепта приобретает сюжетообразующее значение: развитие этого мотива сопровождается пробуждением души героини. Случайные прохожие, офицеры, от скуки заходят в аптеку и спрашивают, на ходу сочиняя рецепт: «Нет ли тут, в аптеке, чего-нибудь этакого… чего-нибудь такого, знаете ли, аллегорического, какой-нибудь живительной влаги… зельтерской воды, что ли? У вас есть зельтерская вода? – Есть, – отвечает аптекарша» [12, т. 5, с. 194]. «Живительной влагой» для самой аптекарши, рецептом от скуки и лекарством для любви (а не от любви) становится присутствие молодых людей, не обремененных заботой о пятнадцати копейках на прилавке в отличие от скучного мужа-аптекаря.
Рецепт – медицинский, псевдомедицинский, пародийный – получает у Чехова статус «ноу хау», становится ключом к целой жизни. В юмореске «Жизнеописания достопримечательных современников» (1884)
жизненный путь некого Иванова осмысливается как путь к открытию чудодейственной мази: «Он смешивал песок с медом, мед с ваксой, ваксу с салом… обмазавшись этой мазью и не умерев от этого, А.И. заключил весьма резонно, что эта мазь целительная и что ее следует продавать по 2 рубля за банку… Мазь, могущая излечивать всякие болезни и в то же время употребляемая с успехом вместо помады, ваксы, дегтя и замазки, привела многие недалекие умы в смятение <…>. … я… лечился ею от запоя и употреблял ее от клопов и прочих паразитов» [12, т. 2, с. 365–366]. Жизнь героя превращается в житие подвижника (и Чехов выдерживает все структурные элементы жития), но результат этого жития – изобретение сомнительной мази. Обесценивание человеческой жизни под влиянием неких узких идей, подчинение судьбы нелепому рецепту – такова драматическая участь многих. Такова концепция Чехова, которая возобновится (продолжится) во многих поздних повестях и рассказах («Дуэль», 1891; «Черный монах», 1894; «Три года», 1895; «Крыжовник», 1898).
«Рецепты» у Чехова могут утрачивать медицинскую форму и приобретать житейский характер. На вопрос читателя: «Как быть счастливым?» автор «Дачных правил» отвечает: «Вообще: не ходи в светлых брюках, не пей после молока квасу, закаляй свой слух кошачьими концертами и высоким «штилем» старых дев, ешь задаром, пей нашаромыжку, люби на шереметьевский счет, пренебрегай стихиями, аккуратно плати праздничные, уважай родителей, люби начальство – и ты будешь счастлив» [12, т. 3, с. 22].
Философичность парадоксальных чеховских «рецептов» особенно ярко проявляется в рассказе «Ночь перед судом» (1886), где в форму рецепта облекается известный афоризм о преходящей славе:
Rp. Sic transit 0,05
Gloria mundi 1,0
Aquae destillatae 0,1
Через два часа по столовой ложке.
Г-же Съеловой
Д-р Зайцев [Там же, с. 122].
Пытаясь «ухватить судьбу за вихор», нужно помнить, что она переменчива, что слава – дым, что все проходит и тонет в Лете. Смехотворный «рецепт» и философская мысль объединяются в художественном целом, «рецепт» становится формой представления, «аллегорией», как выразился герой «Аптекарши», знаком размышлений о судьбе, символом судьбы.
Именно в такой функции выступает «осколок» старинного лечебника в пьесе «Три сестры». Конечно, он осовременен (якобы вычитан из газеты) и мотивирован профессией героя: военный доктор Чебутыкин, давно забывший свою университетскую науку и не умеющий лечить даже одышку, рассуждает о том, как избавиться от облысения: «При выпаде- нии волос… два золотника нафталина на полбутылки спирта… растворить и потреблять ежедневно…» [12, т. 13, с. 122]. Безусловно, это заведомо невыполнимый, абсурдный рецепт – и потому, что нафталин ядовит, и потому, что «ращение волос» – безнадежное занятие, над которым в своих юморесках всегда смеется Чехов. Чебутыкин записывает этот совет в записную книжку – так, на всякий случай, не для себя. Чеховский смех, ирония оказываются обращенными не на одного Чебутыкина, а на всех героев пьесы. Абсурдный рецепт тонко вписан в систему ассоциаций и аллюзий, наполняющих пьесу.
В начале первого действия Ольга, вдохновленная весенней природой, вспоминает Москву и говорит: «… и радость заволновалась в моей душе, захотелось на родину страстно» [Там же, с. 120]. Возникает классический чеховский перебив реплик, наложение двух разных диалогов, и слова Ольги продолжаются беседой Чебутыкина и Тузенбаха:
«Чебутыкин. Черта с два!
Туз е н б ах. Конечно, вздор» [Там же, с. 120].
Ольга продолжает разговор с Ириной о своей мечте, и снова её перебивают:
«О л ь г а. Да! Скорее в Москву.
Чебутыкин и Тузенбах смеются» [Там же].
Вновь Ольга размышляет о счастье, о замужестве, и вновь возникает перебив:
«О л ь г а. …Я бы любила мужа.
Тузенбах. ( Соленому ). Такой вы вздор говорите, надоело вас слушать» [Там же, с. 122].
Далее начинается виртуозно воссозданное движение тончайших чувств Ирины и Тузенбаха, оно-то и нарушается диалогом Соленого и Чебутыкина, в котором возникает вышеприведенный абсурдный рецепт бывшего доктора:
«С ол е н ы й. Одной рукой я поднимаю только полтора пуда, а двумя пять, даже шесть пудов. Из этого я заключаю, что два человека сильнее одного не вдвое, а втрое, даже больше…
Чебутыкин. При выпадении волос… два золотника на полбутылки спирта… растворить и употреблять ежедневно…<…>. Потом вы берете щепоточку самых простых, обыкновеннейших квасцов» [Там же].
Если учесть контекст – беспрерывные размышления и споры героев пьесы о любви, счастье, цели и смысле жизни, то можно заметить, что на фоне всеобщего «недоумения» и растерянности перед жизнью реплики Соленого и Чебутыкина выглядят как иносказания и вместе с тем как осознанные варианты отношения человека к своей судьбе. Соленый – сниженный вариант сильной личности, он считает, что похож на Лермон- това и имеет право «подстрелить, как вальдшнепа», соперника в любви. Его слова о шести пудах – попытка оценить возможности человека в этой жизни, тогда как реплика Чебутыкина может быть понята как попытка ответить на вопрос о том, как надо жить. Соленый явно завышает планку, раздвигает границы своеволия – и превращается в пошляка. К нему можно отнести сентенцию Вершинина: «Русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей, но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко?» [Там же, с. 143]. Реплика Чебутыкина подспудно содержит ответ: «Не знаю». Чебутыкин – плохой доктор. Он не лечит ни физические, ни душевные болезни [4, с. 65–71], он может только посоветовать бежать от пошлости без оглядки, и чем дальше, тем лучше [12, т. 13, с. 179].
«Нафталиновый» рецепт Чебутыкина становится знаком судьбы, способом дискредитации человеческих упований и мечтаний. Подобно тому, как слова старого Ферапонта о Москве (о том, что она сгорела еще в 1812 г., что там был мороз в двести градусов и много народу померзло) конрапунктом соотносятся с повторяющемся мотивом «В Москву! В Москву!», чебутыкинский перл проясняет художественный смысл такого диалога:
«М аш а. Выпью рюмочку винца! Эх-ма, жизнь малиновая, где наша не пропадала! <…>
В е р ш и н и н. А наливка вкусная. На чем это настояно?
С ол е н ы й. На тараканах» [Там же, с. 136].
«Никто не знает настоящей правды», внешне благополучная жизнь внутренне очень драматична, и не мудрено, что малиновая наливка может оказаться настоянной «на тараканах».
«Нафталиновый» рецепт Чебутыкина стоит в одном ряду с другими «абсурдными» фразами («Бальзак венчался в Бердичеве», «У лукоморья дуб зеленый…») и участвует в создании эмоционально-нравственной, психологической атмосферы в пьесе, помогает понять иллюзорность многих представлений героев («О, призрачная надежда людская!» – [Там же, с. 156] и способствует дальнейшему развитию «подводного течения». Имея форму императива в речи персонажа, этот рецепт является и формой выражения авторской иронии в «Трех сестрах».
По-видимому, можно утверждать, что в перечне «абсурдизмов» «Трех сестер» способ «ращения волос» занимает ключевое место потому, что, будучи фрагментом жанра пародийного лечебника, который, в свою очередь, принадлежит к смеховой литературе XVI-XVII вв., он освещает особым – ироническим – светом всю систему чрезвычайно значимых нелепостей и оксюморонов и придает им субстанциальный, философский смысл. Когда возникают споры о чехартме или черемше, о чепухе или рениксе, когда Соленый с жадностью ест сладкое (конфеты), когда Чебу-тыкин сомневается, существует ли он или это ему только кажется, то все эти мотивы, взятые в отдельности, кажутся воплощением бессмыслицы. Объединенные в систему благодаря смешному рецепту, который не случайно возникает в самом начале драмы и тем самым как бы возглавляет эту систему, организует ее, они подтверждают одно: нет и не может быть единого для всех рецепта жизни. Герои Чехова балансируют на грани релятивизма («Одним бароном больше, одним меньше – не все ли равно!»), но самом деле смеховое начало «снимает» этот релятивизм, помогает героям избавиться от него и обратить свою душевную энергию на личный опыт, на созидание самих себя: «Когда читаешь роман какой-нибудь, то кажется, что все это старо, и все так понятно, а как сама полюбишь, то и видно тебе, что никто ничего не знает и каждый должен решать сам за себя» [Там же, с. 169].
Думается, что ключевое значение «рецепта» Чебутыкина подтверждается еще одной репликой бывшего доктора уже в конце пьесы, перед дуэлью. На вопрос Соленого: «Как здоровье?» – Чебутыкин отвечает: «Как масло коровье». Эта рифмованная поговорка в духе скоморошьего, балаганного балагурства, причем поговорка на «медицинскую» тему, произнесенная незадолго до смерти Тузенбаха, как бы подчеркивает, что основные вопросы, волновавшие героев пьесы, не решены, да они и не могут быть решены.
Принцип использования абсурдно-комических рецептов (рецептов нравственно-философского, а не бытового или чисто врачебного типа) реализован также в «Вишневом саде», и, пожалуй, еще тоньше и изящнее. В этой комедии вновь идет речь о счастье и смысле жизни каждого из героев. Наряду с продажей имения за долги, сдачей сада в аренду под дачи, оплатой долгов с помощью денег ярославской тётушки, предполагаемым союзом Вари и Лопахина, здесь обсуждаются и такие нелепые способы жизнестроительства, как превращение Гаева (проевшего все состояние на леденцах) в банковского служащего или продажа англичанам найденной на землях Симеонова-Пищика белой глины. Знаменателен эпизод, когда Симеонов-Пищик отнимает у Раневской пилюли: «Не надо принимать медикаменты, милейшая… от них ни вреда, ни пользы…» – и сам тут же их выпивает [Там же, с. 208]. Этот случай происходит в первом действии, почти сразу же после того, как Лопахин объясняет суть сложившейся экономической ситуации, и предваряет вывод Гаева: «Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима… у меня много средств… и, значит, в сущности ни одного» [Там же, с. 212]. Вершиной абсурдности всех этих рассуждений становится реплика Фирса о том, что «Барин покойный, дедушка, всех сургучом пользовал, от всех болезней» [Там же, с. 219]. Вишневый сад должен быть продан, судьбы героев должны быть разбиты – таков объективный ход вещей. Лечить и лечиться от этого – значит идти против течения, против исторической закономерности.
И еще один штрих, который доводит выявленную закономерность до логического завершения. Эта деталь внешне ничем не мотивирована, но в рассматриваемом контексте становится яркой смысловой гранью: отец Пети Трофимова – аптекарь, что, по мнению самого Пети, решительно ничего не значит [Там же, с. 244]. Но для драматурга, безусловно, эта мелкая подробность весьма многозначительна. Если иметь в виду, что в прозе Чехова 1880-х гг. аптека, аптекари, цены и рецепты подвергались осмеянию как некая смешная бессмыслица, то на образ Пети ляжет отчетливый иронический рефлекс, иллюзорность Петиных путей к новой России и к новому саду станет очевидной.
Поскольку для Чехова связь физического и душевного здоровья человека была аксиомой, он не мог не заинтересоваться и той формой лечебника, которая бытовала в религиозно-дидактической литературе XVI– XVIII вв., особенно в старообрядческой среде. Два подобных текста были опубликованы в известном издании Д.ебутыкин . А. Ровинского [7, с. 52– 53], что свидетельствует об их широкой распространенности в лубочных листах. Названия статей («Былие, врачующее от грехов» и «Аптека духовная, врачующая грехи») указывают на несатирический характер текстов, посвященных врачеванию душ. В них представлен христианский идеал нравственно развивающейся личности: «…возми корень нищеты духов-ныя на нем же ветви молитвенныя процветают цветом смирения, исуши его постом воздержанием, изотри и терпеливым безмолвием, просей ситом чистой совести, посыпь в котел послушания, налей водою слезною, и накрой покровом любве, и подпали теплотою сердечною, и разъжется огнь молитвы, подъмешай капусты благодарения и, упаривши довольным смиренномудрием, влей на блюдо разсуждения, довольно простудивши братолюбием, и часто прикладай на раны сердечныя, и тако уврачюеши болезни душевныя от множества грехов» [9, с. 52].
Этот нравственный идеал особенно явственно представлен в драматургии Чехова. Терпение и смирение, скромность материальных запросов («нищета духом»), любовь и сердечная теплота, даже терпеливое безмолвие («… молчание… молчание…» [12, т. 13, с. 169] – вот черты нравственного мира героев зрелой чеховской драматургии. Сам Чехов, отказавшийся от прямой проповеди, вложил суждения об этом в их уста. Вспомним: «… главное не слава, …а уменье терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни» (Нина Заречная, «Чайка» [Там же, с. 58]; «…чувства проснулись во мне, и защемило мою совесть <…>. …те, которые будут жить через сто-двести лет после нас и для которых мы те- перь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? – … Люди не помянут, зато Бог помянет» (Астров с няней, «Дядя Ваня» [Там же, с. 64]; «Мы… будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем и там за гробом мы скажем, что мы страдали… и Бог сжалится над нами, и мы… отдохнем» (Соня, «Дядя Ваня» [Там же, с. 115]; «…счастья нет, не должно быть и не будет для нас… Мы должны работать и работать» (Вершинин, «Три сестры» [Там же, с. 146]); «…страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас» (Ольга, «Три сестры» [Там же, с. 188]).
«Духовный лечебник» несатирической направленности Чехов «растворил» в монологах своих персонажей и тем самым воплотил собственный нравственный идеал, связанный с христианским универсализмом и труженичеством. Для чеховских героев позднего периода творчества «инобытие, духовная ипостась бытия не менее, а более реальна, чем видимая нам физическая материя, природный и социальный миры» [6, с. 71]. Поэтому обращение Чехова к «духовному лечебнику» следует рассматривать и осмысливать в рамках такого типа творчества, как «духовный реализм» (методологический потенциал этого термина широко и плодотворно разрабатывается В. А. Редькиным и рядом других ученых [Там же]).
Итак, жанры сатирического и «духовного» лечебника, их фрагменты и дериваты присутствуют в чеховском творчестве на всем его протяжении. Их использование способствует созданию стихии смеха в прозаических и драматургических произведениях и философскому осмыслению жизни автором и героями. Литературная традиция, которую использует Чехов, непосредственно восходит к русскому средневековью (XVI–XVII вв.). Чеховская ирония отличается философской глубиной, она в чем-то родственна древнерусской смеховой стихии и вносит в произведения Чехова эпичность и историзм.
Об авторе:
Список литературы Сатирический рецепт и «врачество духовное» в творчестве А.П. Чехова
- Адрианова-Перетц В.П. Историко-литературный и реальный комментарий // Русская демократическая сатира ХVII века. М., Л.: Наука, 1954. С. 218 290.
- А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1960. 680 с.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Сов. писатель, 1979. 364 с.
- Ивлева Т.Г. Доктор в драматургии А.П. Чехова // Драма и театр. Вып. 2 / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2001. С. 65-71.
- Змеев А. Ф. Русские врачебники. СПб., 1895. 328 с.
- Редькин В. А. Духовный реализм как художественный метод современной литературы // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 1. С. 71-78.
- Ровинский Д.А. Русские народные картинки: В 5 кн. Кн. 3. СПб.: Ими. Акад. наук, 1881. 751 с.
- Русская демократическая сатира XVII века. М., Л.: Наука, 1954. 292 с.
- Русская мысль. 1881. № 11. С. 52.
- Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. Ill (XVII в.). Ч. 2. СПб.: Наука, 1993.438 с.
- Турбин В.Н. К феноменологии литературных и риторических жанров в творчестве А.П. Чехова // Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск: СГУ, 1971. С. 204-216.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. М.: Наука, 1974-1983.
- Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М.: Наука, 1974-1983.