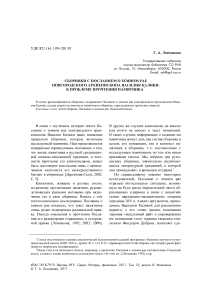Сборники с посланием о земном рае новгородского архиепископа Василия Калики: к проблеме прочтения памятника
Автор: Лончакова Галина Андреевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Четий сборник как феномен литературной культуры русского средневековья
Статья в выпуске: 8 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются сборники, содержащие Послание о земном рае новгородского архиепископа Василия Калики; сделан акцент на контексте памятника в сборнике, определяющем прочтение повести.
Четий сборник, послание о земном рае, василий калика
Короткий адрес: https://sciup.org/14737597
IDR: 14737597 | УДК: 821.161.1.09+281.93
Текст научной статьи Сборники с посланием о земном рае новгородского архиепископа Василия Калики: к проблеме прочтения памятника
В связи с изучением истории текста Послания о земном рае новгородского архиепископа Василия Калики наше внимание привлекли сборники, которые включили исследуемый памятник. Нам представляется совершенно справедливым положение о том, что жизнь памятника в русской средневековой книжно-письменной традиции, в частности прочтение его книгописцами, может быть достоверно воссоздана лишь с привлечением «контекста его непосредственного бытия» в сборниках [Дергачева-Скоп, 2002. С. 5].
Книжники, жившие в разные эпохи, по-разному прочитывали памятник, руководствовались разными мотивами при включении его в свои сборники. Вместе с тем текстологическое исследование Послания о земном рае показало, что текст памятника очень редко подвергался радикальной правке. Иногда изменения в прочтении Послания его редакторами отражались в осторожной правке [Лончакова, 1992; 2003; 2009].
В других же случаях книгописец не вносил или почти не вносил в текст изменений. В таких случаях информацию о в и дении им памятника может дать как состав сборника в целом, его концепция, так и контекст памятника в сборнике, т. е. соотнесенные с исследуемым памятником по тем или иным признакам тексты. Мы избрали три рукописных сборника, значительно различающихся литературной традицией, к которой они принадлежат, и временем создания 1.
По справедливому мнению некоторых исследователей, Послание о земном рае отразило богословскую ситуацию, возникшую на Руси среди определенной части образованных клириков в связи с византийскими варлаамито-паламитскими спорами середины XIV в. Анализ аргументов, приводимых Василием Каликой для разъяснения верного, с его точки зрения, понимания термина «мысленный рай» и опровержения им понимания этого термина тверским епископом Феодором Добрым, позволяет сде-
* Статья подготовлена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2011)», проект № 2.1.3/12135: «Древнерусский четий сборник как литературный факт (канон и творческие модификации)».
лать вывод о том, что Феодор Добрый и его Собор познакомились с исихастским наполнением словосочетания 2.
А. Д. Седельников считал, что и вопрос о «земном рае» возник «среди исихастов, надо полагать, не позже, чем в личном окружении Григория Синаита», доказательством чего является включение «в так называемые Акростихические гл а вы Григория Синаита глав ы (под номером 10) о земном или Едем-ском рае» [Седельников, 1938. С. 169].
Анализ контекста Послания о рае в наиболее раннем из известных включивших его сборников позволяет предположить, что еще во второй половине XV в. в монашеской среде сохранялась память о существовании едва ли не еретического (в восприятии книжников XV в.) мнения о гибели земного рая, вызвавшего в середине XIV в. Тверскую «распрю».
Самый ранний список Послания о земном рае из известных ныне находится в так называемом Ефросиновском сборнике из собрания Кирилло-Белозерского монастыря № 22/1099 3. По терминологии А. Г. Боброва, это Троицкий сборник Ефросина [Бобров, 2008. С. 154]. Проанализируем этот сборник с единственной позиции определения причин включения в него Послания о земном рае 4.
Я. С. Лурье выделил в КБ 22 статьи, которые он отнес к светскому направлению в русской литературе этого периода [1961. С. 166]. Р. П. Дмитриевой сборник КБ 22 определен как один из энциклопедических сборников Ефросина [1972. С. 164]. Для нашей темы очень важны наблюдения А. Г. Боброва, который выделил в сборнике статьи, касающиеся родословной самого Ефросина, князя-инока, по предположению ученого, а также переписанные им жития русских князей-иноков [2008. С. 154]. Таким образом, сборник КБ 22 оказывается чрезвычайно личным, отражающим внутреннюю жизнь, размышления книгописца, его самоидентификацию.
Обратимся к комплексу собственно монашеских статей сборника. В сборник включены «Поучение старца ко ученику Кирила Белозерска чюдотворца» (публикация и исследование: [Прохоров, 2008]), «Предание старческое новоначальному иноку», предположительно атрибутируемое С. А. Семячко Кириллу Белозерскому [Се-мячко, 2008. С. 40], и целый цикл выписок из «Старчества», связанных с постижением новоначальным иноком монашеского образа жизни [Там же. С. 27–28]. С. А. Семячко указывает, что в других сборниках книго-писца Ефросина выписок из «Старчества» гораздо меньше [Там же. С. 28].
На л. 199–200 (КБ 22) вторым почерком переписано Афонское келейное правило, принесенное на Русь архимандритом Доси-феем 5. Значительное место в нем отводилось чтению Иисусовой молитвы, являвшейся частью «практической стороны исихазма» [о. Василий (Гролимунд), 1999. С. 134].
Через весь сборник идут серии выписок из книг репертуара традиционного монашеского чтения, касающиеся собственно «внутреннего делания», «невидимой брани» – непрестанной борьбы с грехом внутри себя, борьбы со страстями, помыслами, рассеянием ума и т. д. Прежде всего, это выписки из Лествицы Иоанна Лествичника, Паренесиса
Ефрема Сирина и Поучений аввы Дорофея, а также Исихия пресвитера, Исаака Сирина, Нила Синайского, Пандектов Никона Черногорца, Феодора Студита и др.
Как известно, и в Троице-Сергиевом, и в Кирилло-Белозерском монастырях были экземпляры, содержащие «Лествицу» и Поучения аввы Дорофея целиком [Прохоров, 1974. С. 318–319; 1999. С. 47–49]. Судя по количеству выписок и их правильной последовательности, «Лествицу» составитель сборника прочел полностью. Чаще всего выписки эти содержат конкретные упоминания о борьбе с той или иной страстью. На л. 477–496 седьмым почерком переписано «Святаго Григориа Синаита сказание малое о безмлъвии и образех молитвы в гла-визнах 15-тых».
Как считают исследователи исихазма, «Лествица» Иоанна Синайского, Поучения аввы Дорофея и другая келейная монашеская книжность – это руководства к необходимому длительному и всепоглощающему труду покаяния, очищения сердца и помыслов, непрестанной молитвы, предшествующему состоянию «мысленного рая» [Прохоров, 1999. С. 45; Петр (Пиголь), 1999. С. 52]. Очевидное внимание книгописца Ефросина к подобного рода сочинениям позволяет предположить, что он был знаком, хотя бы косвенно, с практикой безмолвни-чества.
На л. 239–250 (КБ 22) переписаны, видимо, с одной рукописи-протографа, два послания: Василия Калики о земном рае и «от Святыя горы на Русь к благоверному князю Василию Василиевичю по Сидоре ересни-ке». Оба они имеют на полях помету Ефро-сина с указанием на листы: Послание о рае – «5 лист», Послание «по Сидоре ереснике» – «6 лист». Послание о рае имеет на поле помету «от летописца взято». Поскольку невозможно, чтобы созданное в 1442–1443 гг. Послание иноков Афонской горы [Ломизе, 1997. С. 75] и включенное в летопись под 1347 г. Послание о рае находились в непосредственной близости в летописном тексте, можно считать, что помета «от летописца взято», уже имелась в рукописи-протографе; возможно, она отражает известный Ефроси-ну факт генетической связи данного текста с летописью.
Наши текстологические наблюдения показывают, что текст Послания о рае в КБ 22 без каких-либо изменений воспроизводит текст памятника в варианте Софийской I летописи старшей редакции 6. Как уже сказано, нет оснований предполагать, что Еф-росин выписывает Послание непосредственно из СI ст. ред., но ясно, что сборник-протограф составлен совсем недавно, поскольку списки СI ст. ред. датируются 70-ми – началом 80-х гг. XV в. 7 Послание о земном рае переписано в непосредственной близости с Посланием афонских иноков по поводу Ферраро-Флорентийской унии. Судя по переписанной ранее (на л. 183 об. – 191 об.) серии антилатинских статей, тема отступничества католиков действительно волновала Ефросина. Можно думать, что и Послание о земном рае также воспринимается книгописцем, равно как и составителями сборника-протографа, именно как полемическое; сомнение в существовании библейского Едема ощущается ими как глубочайшее заблуждение, едва ли не как ересь.
Непосредственно с Посланием о земном рае перекликается текст, переписанный рукою Ефросина на л. 34 – 34 об. и озаглавленный «Епифаниево о 4 реках» 8. Процитируем заключительные фразы текста: «Да аще убо несть рая чювьственаго на земли, то уже ни источника, ни реки, ни 4-хь верхов, ни смокви, ни древа. Аще ли несть древа, то и ни Евгы, яже яде от него. Аще ли несть Евгы, то ни Адама. Аще ли несть Адама, то ни человек, но кощюна уже истинна. И ина-ко глаголеться по богопагубному Оригену». Раю и его рекам посвящено и еще несколько небольших статей КБ 22.
Таким образом, можно предположить, что вопрос о существовании земного рая действительно был важен для инока Ефро-сина. Полагаем, что Ефросин в своем сборнике отразил не только свои искания, но, в монашеской его части, отразил характерные особенности сознания окружающих его братий. Следовательно, память о возникшем в середине XIV в. сомнении в существовании земного рая в это время еще могла сохраняться в монашеской среде. Таким образом, составителем сборника КБ 22 Послание о земном рае прочитано наиболее близко к авторскому замыслу.
Несколько по-иному прочитывается Послание о земном рае в сборнике, разделенном на главы и имеющем название: «Книга глаголемая просветитель богословная, еже есть многосложная, от великих святых богомудрых богословцев и богодухновенных отец избрана и сочинена преизящное богословие». Сборник известен нам в трех списках: РГАДА. Ф. 181 (РО МГАМИД), № 288/667 9, конца XVII в. 10; РГБ. Собрание Ундольского, № 1071 11, конца XVII в. 12; ОР БАН. Арх. Д. 429, начала XVIII в. 13
Сборник содержит 110 или 113 глав и представляет собой систематизированное описание мира начиная с Божества и Небесных сил, шести дней творения, устройства мира, человека и его устройства (с особым вниманием к душе и ее деятельности) и завершая полемическими антиеретическими сочинениями. В составе сборников имеются незначительные различия 14. Все три сборника имеют в основании один архетип, который, видимо, можно датировать серединой XVI в. – судя по предшествующему Посланию о рае «Написанию чесо ради Ве-ликаго Новаграда архиепископы на главах носят белый клобук, а не яко же прочие архиепископы» (Повесть о белом клобуке краткой редакции [Кириллин, 2004. С. 429]), а также последующему «Посланию о злых днех и часех» 15.
Далее мы говорим о составе сборника по рукописи РО МГАМИД 288/667 как наиболее ранней. Начинается сборник компилятивным предисловием, составленным из творений Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоуста, Афанасия Великого и Григория Богослова (с соответствующими киноварными пометами), озаглавленным «Слово о непо-стижимем Божестве»: «Преже всего подобает ведати, како повелено есть нам от божественных писаний о Бозе мудръствовати...». Далее переписан Символ веры св. Афанасия Александрийского с толкованиями.
Исповедав таким образом свое православие, присоединив к этому комплекс небольших богословских статей того же характера, составитель переписывает «Слово о шестих днех о сотворении небу и земли и всей твари иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго и иных святых отец совокуплено». Далее логически следуют выписки астрономического и естественноисторического характера (о животных, об устроении человека, о природных явлениях).
Однако в единую картину мира для составителя очевидным образом входят и духовные, нравственные категории (они, таким образом, онтологичны), поскольку далее переписана глава «Воспытание, отку-ду человеку злое случися», а следом «От-куду диаволу ведение злых бывает» и еще ряд фрагментов на эту тему. Судя по количеству статей, вопрос о природе зла и отношении его к Создателю интересует переписчика не менее затмения солнца и луны или природы дождя.
Далее, возвращаясь к моменту Творения («Тваребна ли есть вещь или ни, и почто начат Бог творити мир»), составитель сборника детальным образом рассматривает венец творения – человека, в соотношении его души тела, начиная со статьи «Иже по образу Божию и по подобию кое есть – душа или тело». Переписаны такие статьи как «Како славное душа с неславным плоти созданом бысть и мертвеное з безсмертным», «Грехопадение перво созданных, кто есть повинен – душа или тело...», «Убо Бог ли есть виновен еже быти человеком овому бую и блуднику, а другому неподатливу и сурову, иному же гневливу и яростну, другому же просту и кротку» и т. д. Наконец, значительное количество фрагментов посвящено «будущему веку», воскресению мертвых – это главы 44–56.
Главу 57 (в Арх. Д. 429 – глава 56) составляет «Сказание како прочитати нам божественная писания, яко за еже не радети о сих, от сего вся злая ражается, и жития наша растлешася, и еретически возрасте недуг...». Следующая часть, как можно судить уже по заглавиям статей, посвящена Творцу: Святой Троице и Сыну Божию («Сказание о шести законех, како предашася Богом от древних лет до Пришествия Христова», «Слово многосложное святых отец о Единородном Сыне Божии и о вочеловечении смотрении плотскаго пришествия», «Поучение церковное о Святей Троицы святых отец и о вере вопросы многия», «Иоанна Дамаскина о Святей Троицы» и т. д.). Возможно, ее следует считать центром, ядром сборника.
Далее переписаны тексты, посвященные иконным изображениям лиц Троицы и Пресвятой Богородицы, после чего, после нескольких толкований (о Исусовой молитве, о крестном знамении), следует цикл статей, посвященных Богородице. Завершают сборник несколько полемических сочинений о «латинской вере». В эту вполне цельную картину мира встроены и несколько сочинений о рае. Это глава 44 «К любящим яко Христос с разбойником вниде во еже на земли рай», в которой доказывается, что в настоящее время нет необходимости в «чюв-ственном рае», поскольку Господь своим Воскресением открыл путь на небеса.
В главе 45 «Который есть мысленный рай...» говорится о духовном рае: «Древо жизни Святый Дух есть живяй в вернем че-ловеце...». В главе 93, которую составляет сочинение «Блаженнаго Афанасия, архиепископа Александрийскаго, ко Антиоху князю о многих нужных взысканиих...», находятся доказательства того, что рай находится не на небе и не в Иерусалиме, но, как и говорится в Писании, «яко на востоцех всея земли есть рай». Глава 97 «О разделении чина и устава Божия рая и ко глаголющим, яко рай чювствен мняшеся быти составлен» доказывает, что «Рай чювственне составлен вечно имать наслаждение» – тварный вещественный рай тем не менее является вечным. Таким образом, отношение составителя к данной проблеме, видимо, может быть выражено фразой из текста, составляющего главу 97 (в Унд. 1071 – глава 98) «О разсмотрении скончания вещей мирских»: «От них же ови убо на небеса вознесени будут, ови же в раи поживут, ови же во святый град Иерусалим вселятся».
Послание о земном рае Василия Калики составляет главу 102. Согласие составителя сборника со всеми тремя представлениями о рае вызвало единственную правку в тексте памятника. Чтение «Две месте уготова Бог: едино исполнено благых, а другое тмы и огня исполнено. То же, брате, речено Богом видети человеком святаго рая» (ГПНТБ СО РАН. Q.II.33. Л. 338; Архетипная редакция) рассматриваемый сборник дает в следующей редакции: «Два места уготова Бог любящим его: горний Иерусалим и Едемский рай, и многи суть, рече, обители в дому Отца Моего».
Полагаем, что даже по немногим приведенным названиям переписанных статей видно, что в данном случае космология, естествознание, антропология объединены составителем в целостную картину мира. Сборник этот – энциклопедический, но не секулярный. Составителя интересует Божий мир, человек, происхождение зла и, конечно, спасение. В эту картину естественно встраиваются сочинения о рае – земном, небесном, мысленном. Составителя интересует не полемика, но возможно более детальное рассмотрение многосложной картины Божьего мира, в том числе и рая.
Совершенно особую ситуацию представляет, на наш взгляд, поздний старообрядческий сборник из Кемеровского собрания фонда Отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН (Новосибирск). Рукописный сборник, хранящийся ныне под шифром O.IX.5, приобретен в ходе археографической экспедиции А. Ю. Бородихиным в одном из поселков Кемеровской области. Сборник происходит из старообрядческой общины филипповского согласия. Отметим, что местные филипповцы и до сих пор сохраняют строгость устава и жизненного уклада, свойственную этому согласию.
Рукопись в восьмую долю листа написана на 137 листах одним почерком. По бумаге рукопись может быть датирована серединой XIX в., но, скорее всего, нужно говорить о более или менее длительном процессе ее создания: первый этап следует датировать 10-ми годами XIX в., второй – по меньшей мере, серединой этого века 16.
Сборник написан одним почерком. Через весь сборник проходит единый сигнатурный счет, выполненный тем же почерком, что и основной текст. Единообразно оформлены инициалы и концовки. Все это указывает на единство рукописи.
Вместе с тем некоторые кодикологиче-ские особенности указывают на ее поэтапное, не единовременное создание. Такой способ создания сборника, на наш взгляд, свидетельствует об индивидуальном, личном характере рукописи: сборник составлялся «для себя» и отражает личные интересы и вкусы составителя. Ввиду этого особый интерес представляет состав сборника. Прежде всего очевидна любовь составителя к ярким, эмоциональным сюжетным повествованиям новеллистического типа.
Именно такие сочинения занимают подавляющую часть сборника. Как мы полагаем, это свидетельствует о наличии у составителя вкуса к собственно литературному чтению, к тому, что мы называем «беллетристикой».
Однако все повествования касаются тех или иных нравственных проблем в их христианском истолковании – смирения и гордости, милостыни и сребролюбия, чтения книг, нерассеянного слушания проповеди, ночной молитвы, целомудрия, твердости в вере до исповедничества и мученичества, воздержания в языке, благоговейного стояния в церкви, исполнения данных обетов. Ввиду этого за развязкой следует нравоучительная часть, подводящая своеобразный нравственный итог повествования. Эта одна из особенностей, отличающих подобные рассказы, от классической новеллы [Меле-тинский, 1990. С. 75]. Е. М. Мелетинский штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII – начала XX в. М., 1959, № 169 (1812 г.); Клепиков С. А. Филиграни на бумаге русского производства XVIII – начала XX в. М., 1978, № 192 (1811, 1813 г.), далее – Клепиков, 1978, №; Uchastkina Z. V. History of Russian paper mills and their Watermarks. Holland: The Paper Publications Society, 1962, № 748 (1813 г.). Таким образом, эта часть сборника датируется десятыми годами XIX в. Л. 80 – 100 об. и 110–125 написаны на бумаге с литерами «РОФ» / «PB» и «белой датой» «1810»: Клепиков, 1978, № 646 (1805, 1806 г.); Участкина, № 517 (1801 г.). Эта часть сборника может быть датирована по филиграням первым десятилетием XIX в. Л. 126–137 написаны на достаточно грубой бумаге без штемпелей и филиграней. Такая бумага датируется, как правило, временем не ранее середины XIX в.
называет такого рода повествования, применительно к западноевропейской литературе, «предновеллой» или, предпочтительнее, ранней средневековой новеллой [Там же. С. 60], поскольку он рассматривает данный тип повествования как переходный, предваряющий возникновение классической ренессансной новеллы.
Подобные повествования в составе Пролога рассмотрены Л. И. Сазоновой [1978]. Исследовательница делает акцент на краткости и динамичности развития сюжета, отсутствии психологической мотивации поступков и описания деталей. Композиция и другие художественные особенности таких повествований из Великого Зерцала детально рассмотрены О. А. Державиной [1965. С. 58–95]. Жанрово они отнесены исследовательницей к новеллам. Е. К. Ромодановская говорит о процессе превращения повествований («прикладов») «Римских деяний» в новеллу с потерей ими притчевых толкований. По мнению исследовательницы, XVIII век – век возникновения нового типа сборника – беллетристического, объединявшего «различные малые жанры прозы» [Ромодановская, 2009. С. 151].
Однако и коллизия, лежащая в основе фабулы повествований, составляющих большинство в данном сборнике, и сама фабула также резко отличаются от таковых в классической новелле. Как правило, это столкновение интересов грешника и праведника, столкновение святости и сил зла. Еще один способ построения фабулы христианского новеллистического повествования может быть обозначен как обретение праведника. Здесь нет конфликта как такового, повествование построено на контрасте внешней убогости, бедности героя и его несомненной праведности (Житие Алексия человека Божия, проложное Слово о сапожнике). Особый тип фабулы – видение загробных мук так или иначе согрешившим человеком. Вариант данного типа фабулы – видение праведным Царства Божия, как, например, в известном повествовании, озаглавленном «О славе небесней и о радости вечней праведных».
Представляется, что такие повествования, независимо от включающих их сочинений объединяющего жанра, необходимо рассматривать как самостоятельный жанр, хотя и связанный форматно с новеллой, скорее «христианским новеллистическим повест- вованием» или даже «христианской новеллой».
Художественным и содержательным центром сборника как единого целого можно считать Житие Кирика и Улиты. В основе движения фабулы здесь лежит коллизия между претерпеваемыми мучениями и стойкостью в вере. Драматизм ее усиливается младенческим возрастом Кирика. В череде мучений, которым подвергают истязатели мать и младенца, – котел с кипящим воском. Кирик успокаивает свою мать и убеждает ее в необходимости вытерпеть и это. После, видя безуспешность своих попыток, молится ко Христу: «Владыко, не остави рабу свою погибнути, но сотвори, Господи, да не посрамимся, и да не хвалятся врази Твои, глаголюще, яко одолехом от Святаго Духа, и вси верующие во Христа смятутся». Там, где житейский разум видит неминуемую гибель, разум маленького христианина видит спасение. Избежание же мук и смерти грозит вечной гибелью.
И вот близится конец: мучители решают отсечь Кирику и Улите головы. По молитве Кирика является сам Спаситель с ангелами. Единственная награда, которую просит у Господа маленький мученик за свою верность, – возможность помогать людям после своей мученической кончины. В завершение мучений матери и сына «взя Господь пре-честныя их души месяца июля в 15 день, и приидоша беззаконии мучители обрести святых и не обретоша, вземше бо телеса их святии ангели». Это счастливая концовка. «Святый же Кирик предстоит у престола Христа Бога со святыми ангелы и глаголет: свят, свят, свят Господь Саваоф». Счастливая концовка находится за пределами житейского мира, мира обычных ценностей.
Таким образом, художественное пространство большинства сочинений сборника близко пространству евангельских притч. Оно четырехмерно, и четвертое измерение, не известное ни фаблио, ни шванкам, ни классической новелле, является в ней определяющим.
Трудно сомневаться, что составитель сборника, отбирая повествования для переписки, должен был руководствоваться не только эстетическими критериями, но и своими глубинными духовными устремлениями. С. С. Аверинцев пишет о повествованиях такого рода: «В идеале это не просто чувствительность или растроганность, но мука сосредоточенного духовного пробуждения, когда душа словно вырывается из силков «мира», обдирая на себе кожу. Так оно и было – для немногих или, может быть, для многих в немногие моменты их жизни» [Аверинцев, 2005. С. 129].
Можно предположить, что сердцу составителя сборника оказались близки сами приводимые Василием Каликой доказательства существования земного рая, и прежде всего Легенда о Моиславе с товарищами, нашедшими земной рай в реальном мире. Своим доказательным пафосом Послание о земном рае поддерживало порыв книжника-старообрядца из мира житейского, лежащего во зле и страдании, в мир иных ценностей, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание».
Хорошо известно, что в старообрядческой среде родилась близкая по мироощущению легенда о Беловодье (см.: [Мальцев, 2002; Чистов, 2003. С. 294–306] и др.). Известно, что если вначале легендарную страну, где «воровства, обману и грабежу, убийства и лжи, и клеветы в христианах нет же, но во всех едино сердце и едина любовь» [Чистов, 2003. С. 306], искали на Алтае, то впоследствии речь шла о стране, находящейся на множестве островов в океане [Мальцев, 2002. С. 535].
Таким образом, четьи сборники, отражая замысел их составителей, их интересы, волнующие их проблемы, могут пролить свет на прочтение книжниками конкретного памятника, мотивы включения его в сборник.
THE MISCELLANIES CONTAINING THE MESSAGE ON THE EARTH PARADISE
BY THE NOVGOROD ARCHBISHOP VASILY KALIKA: THE PROBLEM OF TEXT INTERPRETATION