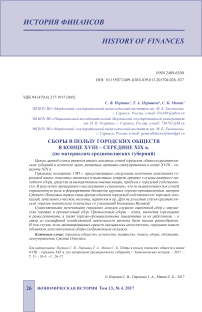Сборы в пользу городских обществ в конце XVIII - середине XIX В. (по материалам Средневолжских губерний)
Автор: Першин Сергей Викторович, Першина Татьяна Анатольевна, Мкоян Степан Кирагозович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: История финансов
Статья в выпуске: 4 (39), 2017 года.
Бесплатный доступ
Целью данной статьи является анализ доходных статей городских обществ средневолжских губерний в контексте задач, решаемых органами самоуправления в конце XVIII - середине XIX в. Городовое положение 1785 г. предусматривало следующие источники пополнения городской казны: пошлина с ввозимых и вывозимых товаров, процент с суммы казенного питейного сбора, средства за вымороченные имения мещан, прибыль с городской собственности. В результате проведенного исследования установлено, что из вышеупомянутых статей определенную роль в формировании бюджетов крупных торгово-промышленных центров Среднего Поволжья играла лишь аренда объектов городской собственности: торговых площадей, земельных участков, мельниц, перевозов и пр. Другие доходные статьи средневолжских городов значительно отличались от узаконений Екатерины Великой. Существенными источниками городских доходов служили оценочный сбор с имущества горожан и промысловый сбор. Промысловые сборы - плата, вносимая торговцами и ремесленниками, а также торгово-промышленными заведениями за их работников, - в связи со спецификой хозяйственной деятельности региона были весьма разнообразны. В том случае, если запланированных средств оказывалось недостаточно, городские власти объявляли дополнительные сборы (добровольные складки).
Городское общество, купечество, мещанство, подати, сборы, обложение, самоуправление, среднее поволжье
Короткий адрес: https://sciup.org/14723869
IDR: 14723869 | УДК: 94
Текст научной статьи Сборы в пользу городских обществ в конце XVIII - середине XIX В. (по материалам Средневолжских губерний)
Жалованная грамота 1785 г. впервые в истории нашей страны признала за горожанами право образовывать собственное общество, со своей казной и добровольными складками, предназначенными для ее пополнения. В ст. 146–150 Городового положения были перечислены доходные статьи городской казны: две копейки с пошлинного рубля с ввозимых и одна копейка – с вывозимых товаров в портовых и пограничных городах; один процент с суммы казенного питейного сбора; средства за выморочные имения мещан; прибыль, получаемая с городской собственности (мельниц, рыбных ловель, перевозов); штрафы с купцов и мещан [14, с. 22].
Как показало проведенное исследование, основные источники доходов средневолжских городов существенно отличались от предусмотренных узаконениями Екатерины Великой [14, с. 22–23]. Дело, конечно же, не только в том, что абсолютное большинство российских городов не были портовыми и приграничными. Гораздо важнее то, что прописанные в Городовом положении статьи доходов изначально не могли являться стабильными источниками городского благосостояния (например, штрафы с купцов и мещан).
Проанализировав по материалам Среднего Поволжья структуру и функции городского самоуправления, в предшествующих исследованиях мы пришли к выводу, что в российском законодательстве конца XVIII в. городские учреждения были определены недостаточно четко, в связи с чем органы самоуправления формировались с учетом специфики населенных пунктов, при этом правительство допускало отклонения от основополагающей Жалованной грамоты городам 1785 г. [18, с. 23]. С городскими доходами и расходами, как нам представляется, дело обстояло примерно так же.
Целью данной статьи является анализ основных доходных статей городских обществ средневолжских губерний в контексте задач, решаемых органами самоуправления в конце XVIII – середине XIX в. На наш взгляд, данный ракурс исследования позволяет конкретизировать процесс формирования сословий в России. Обосновывая актуальность заявленной проблемы, также сошлемся на мнение Т. В. Бессоновой – автора единственной специальной работы по налогообложению жителей средневолжских городов конца XVIII – первой половины XIX в., сделавшей вывод о том, что именно отношение горожан к податям и повинностям было ключевым фактором в процессе консолидации городского населения, а своевременное исполнение податей – главным беспокоившим власти вопросом [1, с. 35].
Методы
При написании работы использовались методы, традиционно применяющиеся в исторических исследованиях. С помощью сравнительно-исторического и проблемно-хронологического методов прослежен процесс формирования доходных статей городских обществ в конце XVIII – первой половине XIX в. Общая характеристика состояния городских бюджетов, выявление общего и особенного в развитии финансовой сферы городов были возможны при условии применения метода системного анализа и структурного метода. Анализируя законодательные основы деятельности сословных учреждений, мы применяли методики историко-правового анализа.
Результаты
Несмотря на широкие возможности формирования городских доходов, предоставленные правительством, бюджеты провинциальных городов состояли в основном из налога на имущество, добровольных складок купцов и мещан, а также поземельного сбора. Имущественный налог представлял собой небольшую сумму по сравнению с той, которая требовалась для содержания городской инфраструктуры.
В качестве основных причин дефицитности городских бюджетов представляются отсутствие адекватной нормативно-правовой базы обложения и должного контроля за деятельностью выборных, а также рост в городах доли неподатного населения.
Дефицит доходной части городских бюджетов заставлял думы и ратуши периодически прибегать к практике дополнительных складок. Весьма скромные финансовые возможности большинства городских обществ, соответствовавшие низким темпам социально-экономического развития региона, чаще всего позволяли удовлетворять лишь насущные нужды местного населения.
Обсуждение
Рассмотрение источников пополнения городской казны начнем с личных сборов с купцов, основу которых в рассматриваемый период составлял так называемый «чет-вертьпроцентный сбор». Первое обнаруженное нами упоминание о сборе, равном четверти процента объявленного купцами капитала, тратившемся в Пензе на содержание городового магистрата и прочие «законам непротивные расходы», относится к 1801 г. [14, с. 33].
По силе манифеста от 1 января 1807 г. «четвертьпроцентный сбор» с купеческого капитала был официально передан в пользу городов, «дабы они, приумножаю сию сумму для жалованья служащим по купеческим выборам, хранили оную особою статьею, впредь до дальнейшаго распоряжения по сему предмету» [15, л. 2]. Дополнительное постановление об устройстве гильдий 1824 г. уточнило, что данный сбор предназначен для удовлетворения городских потребностей. По данным И. Дитятина, данная подать пополняла городскую казну вплоть до начала 1860-х гг. [10, с. 190].
О размерах четвертьпроцентного сбора позволяют судить следующие данные. По ведомости 1791 г. в Пензе было объявлено по первой гильдии 10 капиталов (54 200 руб.), по второй – 26 капиталов (68 050 руб.), по третьей гильдии 247 капиталов (110 010 руб.); со всех этих капиталов было выплачено за год 2 322 руб. процентов [14, с. 23]. В следующие годы процент с объявленных капиталов составил: 1796 г. – 5 234 руб. 34 коп.; 1797 г. – 5 464 руб. 70 коп.; 1798 г. – 4 261 руб. 35 коп., 1821 г. – 25 992 руб. 97 ¾ коп. [14, с. 24–26]. Как уже было упомянуто, четвертая часть этого дохода пошла на удовлетворение общественных нужд.
С мещанства в то же время собиралась так называемая «земская повинность», незначительная часть которой тратилась на содержание городской инфраструктуры.
В 1853–1856 гг. по Высочайше утвержденной раскладке земских сборов в Пензенской губернии собиралось: «на государственные повинности с купеческих капиталов по 15 коп. с пошлины, определенной в казну за свидетельства и с души по 50 к. на губерн-ския повинности с торговых свидетельств с пошлины, определенной в казну за свидетельства, с земель, не превышающих в общем их счете на имение 15 десятинной пропорции по 1 к. с десятины, с превышающих пропорцию по ½ к., с земель незаселенных по 1 ½ к. и с души по 4 к.» [23].
Т. В. Бессонова пишет, что казанские мещане в 1811 г. выделяли на содержание почтовых лошадей, отопление и освещение этапов и тюрем, содержание и ремонт зданий присутственных мест по 29 коп. с души [1, с. 35].
Как видим, перечисленные расходы могут быть отнесены к государственным, либо губернским расходам, непосредственно не связанным с нуждами горожан.
Более существенным источником поступлений в казну являлся оценочный сбор с имущества [24, c. 258–261]. В приходных ведомостях г. Казани 1837 г. в статье «Сборы с владельцев недвижимого имущества» показано 56 969 руб., что составляло 23,1 % всех городских доходов [16, л. 21 об.]; в 1859 г. – 12 872 руб. (16,3 %) [17, л. 2 об. – 3].
Порядок оценочных сборов законодательно определен не был; их размеры, раскладка и способы взимания определялись на местах. Основанием для сбора с недвижимости являлась стоимость имущества. Стоимость объектов обложения в рассматриваемый период рассчитывалась комитетами, составляемыми из разных категорий городского населения [10, с. 183].
В 1816 г. пензенские «ценовщики», избранные от дворян, купцов и мещан, по настоянию Комитета для уравнения городских повинностей составили опись городской собственности, в результате которой было установлено «в первой части г. Пензы 923 дома на сумму 1 296 775 р., во второй части – 1 208 домов на 939 535 р., а всего на 2 236 310 р.» [14, с. 29]. В 1817 г. «це- новщики» насчитали в городе 2 375 домов, 234 лавки и амбара, 34 завода, 23 кузницы, общей стоимостью 2 558 670 руб. [14, с. 29].
В 1817 г. комитет предложил покрыть дефицит бюджета ежегодным сбором, равным четвертой части процента стоимости объектов пензенской недвижимости. По предварительной оценке, данный сбор мог принести дополнительно 6 342 руб. 69 коп. [14, с. 33]. Однако, как следует из журналов комитета, сбор со строений и взыскание недоимок происходили с большими затруднениями [14, с. 33].
Одной из насущных проблем руководства провинциальных городов в рассматриваемый период являлось взимание платы за жилые строения в городской черте с представителей разнообразных категорий «негородского» населения, только числящихся «настоящими городовыми обывателями», но игнорирующих решения органов самоуправления.
В начале XIX в. пензенская дума распорядилась «собрать по мере состояния с каж-даго живущаго в городе исключая священно- и церковнослужителей, которые дома свои не употребляют в наем» [14, с. 22]. С исполнением данного постановления у купцов и мещан сразу же возникли проблемы. В 1800 г. гласные Плотников, Деруссель и Кузнецов, назначенные для сбора денег с домов на содержание полиции, отрапортовали: «Многия живущия в здешнем городе чиновники имеющия дома а также разночинцы а особливо пахотныя солдаты положенных на них к збору денег не платят отзываясь тем что они по положению градской думы с городовым магистратом яко не в ведомстве сих мест состоящих платить не одолжаются» [14, с. 22].
В том же году дворяне, побуждаемые городским руководством на основании ст. 13 Жалованной грамоты к платежу с принадлежавших им домов на содержание полиции, избрали в пензенскую думу депутата, которому поручили заняться раскладкой нового сбора. Выборный от привилегированного сословия, разобравшись в сути вопроса, предложил думе вначале навести порядок в собственных финансах: депутат настаивал на необходимости, прежде чем отягощать благородное дворянство новым сбором, дополнить городской окладник неучтенными доходными статьями [14, с. 20]. Так, образованные дворяне указали общественникам уязвимость их позиций.
В 1801 г. сборщик М. Ермилов сообщил о продолжении сопротивления дворян и пахотных солдат решениям думы: «некоторые чиновники, отзываясь тем, что оне по случаю нахождения при должностях положенных с домов их денег платить не одолжаются, а притом слобод пешей и стародрагунской па-хотныя солдаты упрямством своим не платят» [14, с. 21]. Отказывались участвовать в складках на городские нужды даже служившие в магистрате дворяне [14, с. 21].
О сложности привлечения всех «настоящих городовых обывателей» к исполнению повинностей позволяет судить еще одно событие, произошедшее в Пензе спустя несколько лет. В 1804 г. дворянский депутат заявил, что согласен начать сбор с привилегированного сословия только после уточнения суммы, собираемой другими горожанами, но так как дума не «имеет ли согласие выполнить… им не предъявила… почему приступить к раскладке не могут» [14, с. 22]. Как видим, дворянам удавалось очередной раз саботировать постановления городского самоуправления.
Между тем необходимость в распределении обязанностей по поддержанию порядка на всех проживавших в данном губернском центре была уже достаточно острой. По мере роста численности жителей Пензы городское благоустройство требовало все большего внимания и приложения сил. В 1807 г. в Пензе числилось 2 310 мещан, которые составляли 28,6 % проживавших в городе лиц непривилегированных сословий [3, л. 41–45]; в 1828 г. мещан в городе насчитывалось всего 2 147 чел. (15 % податных) [5, л. 241]. Таким образом, за два прошедших десятилетия нагрузка на пензенских старожилов возросла.
Традиционным источником доходов, подтвержденным положением 1785 г., яв- лялась плата за использование городской собственности. Типичные для городов исследуемого региона статьи – сбор с весов и мер, с перевозов, с торговых мест; поселения, расположенные на берегах рек, сдавали в аренду рыбные ловли и водяные мельницы [16, л. 21 об.; 20, с. 25].
Впрочем, существенный доход городскому бюджету приносила лишь некоторая недвижимость, чаще всего расположенная в крупных населенных пунктах. Таким прибыльным заведением в Симбирске являлась мельница, поставленная на р. Сви-яге. В 1838 г. она претерпела значительную реконструкцию и была сдана в аренду купцу Крылову. О размере приносимого данным объектом дохода может служить тот факт, что с 1862 г., когда водяная мельница перешла на 24 года в пользование купца Ф. Ф. Красникова, последний обязывался вносить в городскую казну по 3 000 руб. ежегодно [12, с. 309].
В населенных пунктах, являвшихся значительными торговыми и промышленными центрами, стабильный доход позволяла извлекать аренда земельных угодий и торговых мест. В 1859 г. лавки и помещения казанского гостиного двора – наиболее значительного по своим масштабам торгового заведения исследуемого региона – принесли казанскому обществу 21 035 руб., что составило 15,9 % городского дохода [17, л. 2 об. – 3].
Сумма, получаемая казанским обществом в отдельные годы за аренду имущества и площадей, могла быть гораздо существеннее. Такой вывод может быть сделан на основании материалов сенатской ревизии 1823 г., установившей в делопроизводстве казанской думы следующие весьма серьезные нарушения:
Например, в 1808 г. симбирская дума с временных балаганов ярмарки получила всего 88 руб. 42 коп. ассигнациями, что однозначно свидетельствует не столько о малых объемах торгового оборота, сколько о неспособности выборных извлекать прибыль в пользу общества.
В 1826 г. с ярмарочных помещений было собрано 1 411 руб. 25 коп. ассигнациями, в 1841 г. – 8 326 руб. 31 коп. серебром. Увеличение дохода было вызвано тем, что симбирская ярмарка из розничной постепенно превращалась в оптово-розничную, росло число иногородних гостей [22, с. 48]. Впрочем, полученная сумма не может считаться достаточной для губернского центра и крупного города. Одной из причин малых объемов товарооборота симбирской ярмарки являлась успешная деятельность конкурентов – карсунского городского общества.
Весьма подробно причины роста прибыльности арендуемых ярмарочных площадей в Карсуне описывает «Сборник исторических и статистических материалов Симбирской губернии» 1868 г.: «Ярмарочное место и лавки были во владении пушкарей, стрельцов и казаков и доход с ярмарки шел в их пользу. С учреждением в Карсуне уездного города ярмарка поступила в заве-дывание Симбирской казенной палаты. Палата весьма мало заботилась об интересах торговцев. Между тем, Карсунское обще- ство значительно увеличилось; к городу стали приписываться верховые торговцы, так что вместо 5 человек мещан, бывших при основании города, в 1797 году Карсун считал уже 171. В конце этого года Карсун-ское общество, в прошении на Высочайшее имя, ходатайствовало о том, чтобы ярмарка была отдана городу. Результатом чего было постепенное увеличение ярмарочных доходов. Так, в 1818 году доход простирался до 8 000 р., в следующем году до 8 200 руб., а в 1827 году дошел до 11 000 р. С увеличением ярмарки увеличивался и доход города; в 1812 году Карсун имел городского капитала 18 139 руб. и ссудил им правительство, нуждавшееся в деньгах, по случаю войны с Наполеоном. В 1825 году городской капитал возрос до 54 869 руб. Несмотря на это, местное начальство весьма мало заботилось об удобствах торговцев. Слышались частые жалобы на тесноту помещения, ветхость лавок; многие торговцы даже перестали ездить на ярмарку. Наконец, в 1828 году последовало распоряжение Губернского Начальства о возведении каменных лавок. В 1831 году лавки были уже готовы. Устройство ли ярмарочного помещения и возведение еще новых ярмарочных рядов, или что другое было причиной, только ярмарка, в продолжении 30 годов с каждым годом значительно разрасталась. В 1831 году сумма привоза простиралась до 4 500 000 р. ассигнациями, а в 1837 году уже более 6 000 000 р. ассигнациями. Но с 40-х годов ярмарка стала заметно упадать, и даже трудно предположить, чтобы она снова поднялась и достигла прежних своих размеров, потому что падение Карсунской ярмарки шло рука об руку с возвышением Симбирской» [22, с. 62–63].
Сокращение масштабов ярмарочной торговли в Карсуне совпало по времени с самовольной застройкой торговой площади данного города [9, л. 122–126]. В октябре 1842 г. Симбирскому губернскому правлению стало известно, что мещанин И. Драгунский и купец П. Павлов, торгующие фруктами во временно размещаемых на городской площади холщовых палатках, без дозволения думы выстроили взамен них деревянные лавки. По справке городничего оказалось, что постоянные лавки устроены не только упомянутыми жителями Карсуна, но и всеми торговцами калачами и пряниками с разрешения самого городничего и городского головы. Судьба лавок, приносящих убыток общественной казне и портивших вид торговой площади, решалась более десяти лет [9, л. 122–126].
Доход в пользу города с временных лавок и «шалашей», устанавливаемых ежегодно с 16 июня по 1 июля на Петропавловской ярмарке в Пензе, также поначалу был небольшим, составляя: 1790 г. – 155 руб., 1791 г. – 160 руб., в 1792 г. – 300 руб., в 1794 г. – 500 руб. [14, с. 23]. В начале следующего столетия доходность Петропавловской ярмарки постепенно возрастала: 1803 г. – 3 056 руб., 1804 г. – 2 314 руб. 50 коп., 1806 г. – 4 454 руб. 50 коп., 1807 г. – 3 508 руб., 1808 г. – 4 633 руб., 35 коп., 1809 г. – 6 384 руб., 1811 г. – 8 483 руб. 45 коп., 1812 г. – 5 999 руб. 80 коп., 1814 г. – 10 150 руб., 1816 г. – 10 118 руб. 50 коп., 1820 г. – 20 166 руб. 75 коп. [14, с. 26, 28, 29].
Среди факторов, влиявших на прибыльность этой ярмарки, следует в первую очередь выделить опять же деятельность выборных. Такой вывод сделан на основании нескольких фактов.
Накануне открытия ярмарки в 1810 г. пензенский губернатор прикрепил к торговым смотрителям доверенное лицо из дворян, «дабы взборе следующих в городской доход денег за отводимыя купечеству места… сохранить большую точность» [14, с. 28].
Низкая доходность Петропавловской ярмарки в 1815 г. привлекла внимание Комитета об уравнении городских повинностей Пензы. В 1815 г. наблюдавшие за сбором купец Г. Иванисов и мещанин И. Виноградов установили следующие нарушения: во-первых, пензенские купцы, мещане и пахотные солдаты ставили на ярмарочной площади в немалом количестве лавочки и харчевни без разрешения думы и платежа на том основании, «что они здешния жители»; во-вторых, не собирались деньги не только с лавок, устроенных в ограде местной церкви Петра и Павла, но и с холщовых палаток, поставленных ктитором данного храма в общем торговом ряду. На основании собранных сведений комитет сделал вывод, что сокращение городских доходов зависело от «слабого смотрения и нерадения» должностных лиц [14, с. 30–31].
Список литературы Сборы в пользу городских обществ в конце XVIII - середине XIX В. (по материалам Средневолжских губерний)
- Арсентьев В. М. Теория и практика экономического районирования Среднего Поволжья/В. М. Арсентьев, О. И. Марискин//Регионология. -2004. -№ 2 (47). -С. 106-119.
- Бессонова Т. В. Подати и повинности казанского мещанства (конец XVIII -первая половина XIX века)//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -Тамбов: Грамота, 2012. -№ 3 (17): в 2 ч. -Ч. 2. -C. 35-37.
- Быстренин В. П. Уходящее (силуэты)//Голос минувшего. -1922. -№ 2. -С. 91-107.
- Государственный архив Пензенской области (ГАПО). -Ф. 5. -Оп. 1. -Д. 109.
- ГАПО. -Ф. 5. -Оп. 1. -Д. 980.
- ГАПО. -Ф. 5. -Оп. 1. -Д. 1502.
- ГАПО. -Ф. 5. -Оп. 1. -Д. 3495.
- ГАПО. -Ф. 196. -Оп. 1. -Д. 625.
- Государственный архив Самарской области. -Ф. 1. -Оп. 3. -Д. 566.
- Государственный архив Ульяновской области. -Ф. 747. -Оп. 3. -Д. 62.
- Дитятин И. И. Городское самоуправление в России. Городское самоуправление до 1870 года. -Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1877. -562 с.
- Козьмодемьянск в конце XVI -начале XX веков: документы и материалы по истории города/Мар. гос. ун-т; сост., предисл. и комм. А. Г. Иванова. -Йошкар-Ола, 2008. -616 с.
- Мартынов П. Город Симбирск за 250 лет его существования. Систематический сборник исторических сведений о г. Симбирске. -Симбирск: Типо-литогр. А. Т. Токарева, 1898. -400 с.
- Марискин О. И., Левкин В. В., Мягков Н. А., Тамбовцев А. А. Налогообложение торгово-промышленного предпринимательства в России во второй половине XIX -начале XX в.: по материалам Пензенской губернии//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -2011. -№ 6 (12): в 3 ч. -Ч. 1. -C. 123-126.
- Материалы для истории города Пензы//Труды Пензенской ученой архивной комиссии. -Пенза, 1905. -Кн. 3. -С. 3-76.
- Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ). -Ф. 114. -Оп. 1. -Д. 75.
- НАРТ. -Ф. 114. -Оп. 1. -Д. 1267.
- НАРТ. -Ф. 114. -Оп. 1. -Д. 3037.
- Першин С. В. Сословные учреждения в России в первой половине XIX века (по материалам дворянских и городских обществ средневолжских губерний): автореф. дис.. д-ра ист. наук. -Саранск, 2010. -316 с.
- Першин С. В. Социум российской провинции в первой половине XIX века: Региональные аспекты трансформации структуры (по материалам мордовского края). -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. -100 с.
- Першин С. В., Ромайкина Н. А. Структура бюджета города Козьмодемьянска в конце XVIII -середине XIX в.//Экономическая история. -2015. -№ 2 (29). -С. 24-29.
- Полное собрание законов Российской империи. -СПб., 1857. -Т. 12. -№ 23.
- Сборник исторических и статистических материалов Симбирской губернии. Приложение к Памятной книжке, на 1868 год. -Симбирск: Тип. Симбирского губернского правления, 1868. -281 с.
- Статистическое описание Пензенской губернии. Приложения/сост. Сталь. -. -48 с.
- Федосеев Р. В., Безрукова А. Э. Введение в 1863 году налога на недвижимое имущество в городах//Законность в современном обществе: сборник статей Международной научно-практической конференции. -Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2016. -С. 258-261.