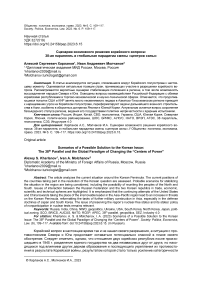Сценарии возможного решения корейского вопроса: 38-ая параллель и глобальная парадигма смены «центров силы»
Автор: Харланов Алексей Сергеевич, Молчанов Иван Андреевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 6, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется ситуация, сложившаяся вокруг Корейского полуострова к настоящему моменту. Оцениваются актуальные позиции стран, принимающих участие в разрешении корейского вопроса. Рассматриваются вероятные сценарии стабилизации положения в регионе, в том числе возможность воссоединения народов Севера и Юга. Освещены вопросы взаимодействия Российской Федерации с обеими корейскими республиками в торгово-экономической и научно-технической сферах. Отмечается, что продолжающиеся попытки США и КНР занять место несменяемого лидера в Азиатско-Тихоокеанском регионе приводят к наращиванию угроз на Корейском полуострове, переформатируют задачи дальнейшего военного строительства в Азии, особенно в оборонных доктринах Японии и Южной Кореи. Актуальным остается вопрос сохранения безъядерного статуса региона, ведения его государствами политики непричастности к ядерным испытаниям.
Россия, индия, китай, сво, геополитика, украина, сша, южная корея, северная корея, япония, политическое районирование, шос, брикс, аукус, нато, врэп, атэс, 38 параллель, сэз, индустрия 4.0
Короткий адрес: https://sciup.org/149143039
IDR: 149143039 | УДК: 327(519) | DOI: 10.24158/pep.2023.6.15
Текст научной статьи Сценарии возможного решения корейского вопроса: 38-ая параллель и глобальная парадигма смены «центров силы»
позиций конфликтующих сторон, развивались все же циклично и характеризовались как периодическим «потеплением», так и «охлаждением». Оставаясь в статусе «тлеющего», противостояние Республики Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики, ориентированных на полярные общественно-политические ценности (коммунистические и либеральные), дестабилизирует ситуацию в регионе и требует создания прогнозов дальнейшего ее развития.
Для осуществления этого необходимо попытаться разобраться в причинах сложившегося положения дел. Следует сказать, что у исследователей нет единства в их понимании. Согласно С.В. Хамутаевой, осуществившей подробный анализ позиций ученых (Хамутаева, 2009; 2010), можно выделить несколько подходов к данному вопросу в научной среде. Одни исследователи утверждают, что причиной раздела по тридцать восьмой параллели послужила Холодная война, а ответственность за это в равной мере несут США и СССР. Другие же полагают, что серьезные последствия в регионе вызвали преимущественно действия Америки. В историографии же США зафиксирована точка зрения, согласно которой страна обозначает свои действия как ответ на агрессию Северной Кореи, предварительно подготовленной и снабженной оружием СССР, что неоднократно опровергают советские, а на данный момент и российские исследователи, подтверждая свою позицию тем, что регулярные части войск были выведены из Кореи еще до начала войны 1953–1955 гг. (Хамутаева, 2009; 2010).
В такой ситуации ясно одно: Корейский полуостров стал местом столкновения интересов ведущих игроков на мировой арене – СССР, Китая, США и Японии. Их совокупное и дифференцированное влияние на каждую из корейских республик и создало условия для разделения прежде единого государства, а также для сохранения противостояния в современности.
Ситуацию усугубляет ядерный потенциал региона, выступающий в качестве сдерживающего фактора в рассматриваемом противостоянии, который, однако, не позволяет в то же время нормализовать отношения между сторонами, что лишь усиливает их разобщение и отдаляет друг от друга, обесценивая идеи о возможном объединении.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, анализируя политику Китая и КНДР в Японии и отмечая стремление Северной Кореи увеличить численность и боеспособность сил самообороны до уровня полноценной армии на фоне изменения национальной доктрины и действия ядерной программы, отметил, что в этом случае США будут вынуждены уравновесить силы, вследствие чего ядерное оружие появится и в Южной Корее, где служат 28 тыс. американских военнослужащих, которые будут готовы ответить на растущие амбиции Пхеньяна в отношении Сеула1. Денуклеаризация Корейского полуострова, инициированная США в недавнем про-шлом2, не спасла ни регион, ни Азию от нарастающей эскалации противостояния систем, которые не намерены зависеть от абстрактных истин, но продолжают выстраивать свои контуры «красных линий» геополитического районирования на «своих» – проамериканских, и «чужих» – китайских.
Сегодня влияние Китая на КНДР чрезвычайно велико, что лишь подкрепляется введением множества санкций ООН в отношении Северной Кореи, которые вынуждают её находить свои пути и способы выживания, и делать это адекватно и успешно. Таким образом, хоть и условно, но существует возможность говорить о КНДР как об относительно суверенном государстве. В данном значении актуального политического контекста термин подразумевает наивысший уровень независимости государства от внешнего влияния, несмотря на то, что его функционирование в целом саморегулируется условиями выживания в тесном соседстве со сверхдержавами. Напротив, положение Республики Корея, которая на данный момент при всем экономическом благополучии, по сути, представляется абсолютно несамостоятельным государством ввиду того, что выступает анклавом США с точки зрения организации внешней политики (Лукин, Пугачёва, 2020).
Политика следования Южной Кореи национальным интересам Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) выражается не только в непосредственном размещении американских войск на ее территории, но и в присоединении к таким проектам, как Сеть экономического процветания (Асмолов, 2021), а также Чистая сеть, призванным ограничить и свести к минимуму влияние китайских сайтов, программ и программного обеспечения в мире. Популярные приложения «Тикток» и «Вичат» считаются опасными с точки зрения утечки информации пользователей в руки Коммунистической партии Китая.
Главной проблемой Америки в построении отношений с Северной Кореей становится отсутствие единой переменной и точек соприкосновения, из-за чего национальные интересы не могут быть принесены в жертву ни одной из сторон. Ровно по этой же причине США не готовы поступаться своими амбициями в создании рычага давления на Китай и Россию, создавая угрозу затяжного регионального конфликта ради мира, который должен быть установлен между двумя государствами (Ланцова, 2014).
Условием для конструктивного диалога представляется обязательная денуклеаризации КНДР. Позитивная тенденция в этом вопросе отмечалась в период с 2002 по 2013 гг., то есть до прихода к власти Ким Чен Ына. Например, в 2002 г., в период власти Ким Чен Ира, были проведены экономические реформы в КНДР, направленные на децентрализацию плановой экономики, значительное повышение зарплат и улучшение качества жизни. Вместе с этим были подготовлены и новые специалисты по управлению во всех сферах, что подчеркивало возможности как для объединения полуострова, так и для постепенной вестернизации Севера (Забровская, 2005). Однако ядерные испытания 2013 г. показали, что этим прогнозам не суждено пока сбыться.
Во многом период начала XXI в. стал эпохой выбора пути для Северной Кореи – в сторону расширения отношений с Китаем или выстраивания конструктивного диалога с Южной Кореей, Японией и США. Окончательного решения КНДР не приняла до сих пор, однако и шагов в сторону компромиссного урегулирования ситуации не предпринимает.
Япония и Южная Корея находятся в прямой зоне поражения северокорейскими ракетами средней дальности, испытание которых прошли в 2013 г., поэтому дальнейшая разработка КНДР ядерной программы способствует эскалации напряженности отношений с ними и США, выступающими на стороне обозначенных стран как союзников. Запуски Северной Кореей ракет в 2015 г., кибератаки на «Сони Пикчерз интертеймент» послужили поводом для введения Западом множества санкций в отношении КНДР (Гарусова, 2016).
Своего рода арбитрами между сторонами нарастающего противостояния выступают Москва и Пекин. Необходимо сказать, что Китай и Россия в равной степени возложили на себя миротворческую миссию по предотвращению и урегулированию конфликтов между государствами Северо-Восточной Азии, что необходимо для обеспечения стабильности и безопасности в регионе и отвечает их общим интересам в установлении многостороннего сотрудничества в условиях полицентричного мира. Однако Китай оказывается все же гораздо теснее связан с обоими государствами при более внимательном рассмотрении не только политического, но и культурно-исторического аспекта их развития. Помимо приверженности одним и тем же категориям ценностей, характерным для субрегиона, таким как буддизм, конфуцианство, основы управления и государственной идеологии, существуют и более конкретные примеры связи Поднебесной и Кореи. Например, участие КНР в войне 1950–1953 гг., где Китай потерял большое количество своих добровольцев и средств, предназначенных для помощи КНДР. Справедливо отметить и то, что объем торговли Северной Кореи и Китая также многократно превышает аналогичный показатель товарооборот КНДР и России, что тоже говорит в пользу более устойчивых связей Китая на азиатском пространстве (Забровская, 2005).
На данный момент отношения России и Северной Кореи постепенно приобретают все большую важность, восстанавливаясь после периода охлаждения, наступившего после распада СССР и отказа независимых стран постсоветского пространства от социалистической идеологии. Расширение партнерства представляется вполне оправданным в условиях противостояния и той, и другой страны коллективному Западу. Например, КНДР – одна из 11 стран, не подписавших резолюцию Генассамблеи ООН о незаконном присоединении Крыма к России еще в 2014 г.
Примечательно также, что в том же году Россия оказала поддержку позиции Северной Кореи по вопросу денуклеаризации полуострова и в свете давления на нее мирового сообщества. Москва выразила несогласие с резолюцией, поскольку обсуждение вопросов о правах человека в КНДР в Совете Безопасности ООН не способствовало конструктивному диалогу с северокорейским режимом.
По мнению корейского ученого Хён Сын Су, уже с 2012 г. Российская Федерация значительно пересмотрела свое отношение к восточным соседям, ее действия по установлению международных контактов в этом отношении исследователь называет «Новой восточной политикой В.В. Путина» (Хён Сын Су, 2014). В свою очередь КНДР, которая отдалилась от Китая после проведения испытаний ядерного оружия и казни Чан Сонтхэка, также намерена сотрудничать с Россией, так как тоже заинтересована в поддержании стабильности и безопасности в регионе. Нельзя не заметить и смену политического курса внутри КНДР в 2013 г. с «сонгун» на «пён-чжин» – деятельность, ориентированную за экономическое развитие страны и расширение сферы ядерного вооружения (Лукин, Пугачева, 2020).
В качестве сближающих шагов, которые были предприняты Россией для восстановления экономического сотрудничества, необходимо упомянуть почти полное списание долга Северной Кореи (< 11 млрд долл.) в 2014 г., который был камнем преткновения долгие годы. Оставшаяся его часть стала формой реинвестирования Россией в секторы здравоохранения, образования и энергетики
КНДР. Нельзя оставить без внимания и то, что на Шестом межправительственном комитете по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшемся во Владивостоке в июне, Россия согласилась оплачивать торговлю между двумя странами в рублях, одновременно предпринимая шаги по укреплению торгового сотрудничества, такие как разработка минеральных ресурсов Северной Кореи и поддержка вспомогательных судов в порту Наджин.
Директор Первого департамента Азии МИД России Г.В. Зиновьев заявил, что правительство КНДР полностью поддержало проведение специальной военной операции на Украине и осудило деструктивную линию санкций Запада1. Он также отметил, что это будет учитываться Москвой в дальнейшем развитии двусторонних отношений и выработке подходов к обеспечению безопасности в Северо-Восточной Азии. Дипломаты КНДР в Москве заявляют, что позиция Северной Кореи по данному вопросу тверда и основательна (Воронцов, 2022).
Российский дипломат, профессор кафедры востоковедения МГИМО МИД РФ, доктор экономических наук Г.Д. Толорая считает, что несмотря на то, что развитие российско-северокорейских отношений проходило крайне неравномерно, в XXI в. сотрудничество двух стран приобретает не столько ценность, сколько необходимость. Однако предпринимаемые шаги можно назвать достаточно грубыми, так как, минуя стадию добрососедских отношений, страны пытаются перейти непосредственно к стратегическому партнерству (Толорая, 2014).
Специальная военная операция Вооружённых Сил России на Украине, начатая 24 февраля 2022 г., вынуждает кардинально переосмыслить приоритеты внешнеполитических ориентиров страны (Воронцов, 2022). Взаимные инвестиционные проекты, пусть даже минерально-сырьевого оборота, помогут включить грамотных технологов и инженеров из КНДР в просевшие после пандемии и западного корпоратокративного бегства производственные и транспортно-логистические цепочки России (Сурма, Харланов, 2022).
Армейские добровольцы и корейский спецназ как один из самых многочисленных и наиболее качественно подготовленных в мире могут оказать нашей стране неоценимую помощь в разрешении украинского кризиса, который сопровождается безграничными поставками оружия стран Североатлантического альянса, заставляющими украинских нацистов вести изнурительную борьбу с Россией «до последнего украинца», навязывая ложные идеалы и фальшивые идеи об оплоте западной демократии.
Согласно общей расстановке сил Америка де-факто является основным игроком в Тихоокеанском регионе, проецируя модель НАТО на диалоги по безопасности АУКУС и QUAD, четко разграничивая общение между англосаксонским миром и Азией (Асмолов, 2021). Равноценным и зеркальным ответом на действия Соединенных Штатов будет включение КНДР в пояс безопасности Поднебесной с целью не позволить расслабиться ни Сеулу, ни Токио в попытках затормозить развитие Китая и вытеснить его со стратегически важных участков логистики и нефтегазовых торговых путей региона АТР руками американцев (Kharlanov et al., 2022b).
Республика Корея, издревле предпочитающая дипломатические и торговые союзы военному противостоянию, на данном этапе рассматривает США в качестве гаранта безопасности на полуострове, Японию – как важнейшего торгового партнера, а Китай – как центр дальневосточной культуры. Россия же занимает четвертое место по значимости и уровню товарооборота для Республики Корея.
Кроме того, с конца XX в., Москва расценивается как стратегический партнер Сеула, в частности, в ведении переговоров по ядерной программе КНДР2, которая из «азиатского тигра» превратилась в место ИКТ-паломничества ведущих армий мира и стала кузницей всего глобального СПГ-флота (судов на газомоторном топливе). В этих условиях Россия может и должна быть вовлечена в процесс разностороннего взаимодействия Востока и Запада. Включение ее в Индустрию 4.0, использование алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) и баз данных (Биг Дата), общий технологический рывок, поддерживаемый взаимодействием с Кореей, может и России дать шанс на уравновешивание своих сил с главными акторами мировой арены (Kharlanov et al., 2022а).
Экономические контакты нашей страны с Республикой Кореей многосторонни: это и угольная промышленность, и рыболовство, и биохимия глубоких и высоких переделов, и добыча природного газа с последующим его сжижением.
Отдельной и весьма значительной нишей южнокорейского присутствия в России стала автомобильная промышленность, востребованность продукции которой стремительно выросла в первые годы нового столетия. Автомобильные предприятия «Хёндэ мотор» и «Киа» в Санкт-Петербурге достигли уровня производительности выпуска до 200 тыс. машин в год, что обусловлено высоким спросом на автомобили компактного и среднего сегмента. Наряду с этим растет и импорт сопутствующих автомобильных товаров из Южной Кореи, включая продукцию производителей шин «Ханкук», «Кумхо» и «Нексен».
Деятельность огромного корейского концерна Лотте представлена в России с 1997 г., включая строительство кондитерской фабрики «Лотте групп» в Калуге, офисные центры, отели в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.
«Кореа Йакулт» на данный момент остается одним из лидеров в сфере пищевой промышленности, в сегменте производства продуктов быстрого приготовления (Доширак) на российском рынке. Завод «Коя» производит товары с 2010 г. в подмосковном городе Раменское (Трифонов, 2020).
Освоение космоса совместно с Кореей началось в 2008 г., когда женщина-космонавт Ли Со Ён отправилась в космос на борту российского «Союз ТМА-12»1. Позднее, в 2012 г., Республика Корея предприняла запуск ракеты-носителя собственного производства, в создании которой участвовали российские специалисты и ученые2. На данный момент Южная Корея признана седьмой космической державой3, что значительно повышает ее статус не только для региона, но и для всего мира. Несмотря на то, что прочные связи между Роскосмосом и корейскими KSLV так и не были установлены, остается потенциал для их развития (Станонис, Лукин, 2020).
Значительный вклад в развитие российско-корейских отношений вносит и открытие центров по производству, продаже и обслуживанию товаров электроники и бытовой техники «Самсунг» и «ЭлДжи». Однако в условиях дефицита полупроводников в годы пандемии Covıd-19 партнёрство между странами испытало закономерный спад, когда товарооборот России и Южной Кореи с января по июнь 2020 г. снизился почти на 27 %.
Следует сказать, что значимость отрасли высоких технологий для двустороннего сотрудничества определенно гораздо более велика и не ограничивается лишь производством бытовой техники и гражданских устройств связи (Станонис, Лукин, 2020). С этим непосредственно связаны и разработки технологий 5G, которые обеспечивают наибольшую пропускную способность, устойчивое соединение между устройствами, что позволяет планировать масштабные системы и цепочки коммуникации с поддержкой большого количества пользователей. Впервые сеть 5G была предоставлена пользователям внутри Кореи еще в 2019 г.4, в то время как запуск аналогичного покрытия в России запланирован лишь на 2024 г. посредством сотрудничества провайдера МТС и технологий китайского «Хуавэй»5. Безотносительно высок потенциал использования данной сети: дистанционное регулирование транспортных систем при помощи искусственного интеллекта; удаленное управление целыми системами дронов и робототехники при стабильном соединении; мониторинг и проктеринг; автоматизация логистических и производственных операций; создание высокоэффективных торговых площадок и систем оплаты. Для России на данный момент по-прежнему актуальна диверсификация партнеров в развертывании сетей 5G. Наряду с китайской компанией «Хуавэй», действующими на сегодняшний день поставщиками базовых станций 5G в Россию являются европейские «Эриксон» и «Нокиа», а также южнокорейский «Самсунг». Для устранения риска китайской монополии на российском рынке, которая чревата утечкой огромных баз данных, в том числе государственного значения, России необходимо расширять взаимоотношения с возможными поставщиками из других стран, одним из наиболее перспективных из которых остается Корея (Станонис, Лукин, 2020).
Заинтересованность обеих сторон в сотрудничестве в сфере высоких технологий выражается в большом количестве проводимых форумов во Владивостоке, Осаке и Токио, а также встреч на любых уровнях.
В совместном заявлении Российской Федерации и Республики Корея от 2018 г. было сообщено о готовности развивать двустороннее сотрудничество по таким направлениям, как гражданское авиа и автомобилестроение, судостроение, освоение космоса, использование атомной энергии в мирных целях, поддержка технологического предпринимательства и передовых теле-коммуникаций1.
Корейский исследователь О Ёниль в статье «Факторы, блокирующие эффективность российско-корейского сотрудничества на Дальнем Востоке» отмечает необходимость дальнейшего развития и повышения эффективности российско-южнокорейских экономических отношений, которые имеют огромный потенциал, зажатый западными санкциями, высокими рисками и устаревшей моделью экономических отношений, так как главным образом предполагают не инвестиции, а торговлю (О Ёниль, 2018).
Перспективным представляется вывод экономического взаимодействия двух стран на качественно новый уровень на основе взаимных инвестиций по девяти основным направлениям, таким как энергетика, строительство, обслуживание железнодорожных сетей и инфраструктуры, судостроение и судоходство, здравоохранение, сельское и рыбное хозяйства, инвестиции, инновации, а также культура и туризм2.
Несмотря на то, что первым препятствием для реализации этой инициативы стал кризис, вызванный эпидемией коронавируса в 2020–2021 гг., развитие двусторонних отношений продолжалось на уровне проектирования, а также разработки совместных СПГ-технологий, судостроительных проектов с использованием робототехники и продвинутой электроники. Примером могут послужить направления работы судостроительного комплекса «Звезда» в сотрудничестве с Samsung Heavy Industries и Hyundai Heavy industries Первым из реализованных проектов стало судно «Владимир Мономах» – СПГ-танкер, спущенный на воду в 2020 г.3
Главным достижением в двусторонних отношениях России и Корейской Республики за последний год можно считать неполный уход крупного корейского бизнеса из России даже под давлением западных транснациональных компаний, которые являются главными заказчиками на продукцию Сеула4. Корея демонстрирует готовность к продолжению сотрудничества с Россией, а также к возвращению прежних объемов совместного производства и товарооборота при условии, что коллективный Запад со временем откажется от санкционной политики в отношении России, разумеется, ради собственной выгоды.
Сотрудничество в военной сфере даёт шанс на продвижение нашего оружия, попытки поставок которого в большом объеме тотально блокируются американцами, но в малых количествах всё равно попадают в корейские ЧВК5.
Таким образом, Россия самым тесным образом исторически связана и экономически заинтересована в сохранении современного уровня взаимодействия как с Северной, так и с Южной Кореями, а также в его развитии, поэтому стабильность в регионе Северо-Восточной Азии входит в число международных приоритетов нашей страны. Немалые успехи были достигнуты в результате переговоров, направленных на снижение разобщенности между Северной и Южной частями Корейского полуострова. Доказательством этого могут служить такие события, как празднование в 2005 г. пятилетия с момента подписания декларации о сближении Севера и Юга от 15 июня 2000 г.6, чему также предшествовали переговоры на министерском уровне, которые состоялись в Пхеньяне 4 мая 2005 г.
В качестве еще одной промежуточной меры содействия урегулированию противостояния на Корейском полуострове со стороны России выступает создание Комитета по содействию экономическому сотрудничеству Севера и Юга в 2000 г., деятельность которого направлена в основном на координирование совместных усилий стран по преодолению угрозы наводнений и защите энергетики.
Надежду внушает и факт активного миграционного и экономического взаимодействия двух стран. Известно, что в 1989–2019 гг. количество пересечений границы с двух сторон достигало до 675 тыс. человек в год, а товарооборот в рамках межкорейской торговли составлял до 10 млн долл. в год, что представляется существенным в условиях межгосударственного кризиса (Пугачева, 2021).
А.Д. Кожевникова описывает несколько вариантов развития ситуации на Корейском полуострове, в том числе неблагоприятные сценарии для КНДР, если она вновь лишится поддержки России. Так, названы варианты: конец власти династии Кимов, поглощение КНДР Китаем, попытка объединения Севера и Юга на условиях США и др. (Кожевникова, 2015).
В качестве благоприятных сценариев обеспечения мира в регионе с последующим воссоединением народа назван долгий процесс установления культурного обмена, расширенного экономического сотрудничества на взаимовыгодных условиях, поиск компромиссных решений. Предложен и вариант создания государства конфедеративного характера, которое разделялось бы на два строя, но было единым в государствообразующих аспектах. Вариант, приоритетный для современного Юга, – перестроить КНДР на капиталистический и прозападный лад, вследствие чего станет возможной национальная интеграция.
Первые шаги к межкорейскому диалогу были предприняты еще в 1972 г., однако до сих пор они имеют цикличный характер1. Концепция конфедеративного объединения двух государств в рамках ДКРК – Демократической Конфедеративной Республики Кореи – была предложена Ким Ир Сеном еще в 1960 г.2 С ней во многом коррелирует более современная «Программа Консолидации», репрезентированная в 1993 г. В ней содержатся такие положения, как независимый и суверенный характер власти, обеспечение демократии, отказ от преследований деятелей обоих режимов, формирование совместных интересов, защита общих прав, координация на международной арене и так далее. Указывается, что объединение мирным путем все еще остается возможным, в особенности, учитывая общую историю, конфуцианскую основу мировоззрения и философии обоих стран (Торкунов и др., 2008).
Наименее желательным вариантом объединения является военное урегулирование ситуации, которое, объединяя земли и линии на карте, лишь усугубит давнее противостояние, затрудняя и замедляя все возможные процессы консолидации.
С момента наивысшей точки напряженности корейского кризиса (март 2013 г.) прошло ровно 10 лет, когда были разорваны не только контакты, но и межкорейские пакты о ненападении, а весь мир замирал в ожидании великой войны (Кривенко, 2013). В тот критический момент именно Соединенные Штаты и Китай сыграли злую роль, которая отбросила назад десятилетия международного труда по восстановлению мира. Неоднократные попытки решить ядерную проблему Корейского полуострова (ЯПКП), которая в понимании США и их союзников сводится к отказу КНДР от ядерного оружия и средств его доставки, к настоящему времени так и не дали результата.
Ситуация на полуострове остается сложной. На сегодняшний день Китай утратил доверие Севера и является торговым соперником Юга, Япония отстаивает свои национальные интересы в противостоянии двух Корей. Соединенные Штаты готовы использовать все страны региона, для того чтобы «стравить» их друг с другом в большой игре, создавая напряжение как на Западе, так и на Востоке России. Они не заинтересованы в существовании сильной объединенной Кореи, так как она с большей вероятностью встанет в один ряд с Россией, разорвав цепи зависимости от США.
Корейский вопрос становится лакмусом наших собственных притязаний на влияние в АТР и проверкой на прочность российских моделей кооперационного участия в новом научно-индустриальном трансфере идей и технологий. Несмотря на то, что Россия добилась установления фундаментальных связей с обоими государствами, а также, что более важно, обеспечила относительную безопасность в регионе и у собственных восточных границ, по-прежнему остаются неразрешенными вопросы мира, стабильности и единства на полуострове. Борьба за ближайшее будущее Кореи покажет зрелость каждого актора, заявляющего о своих притязаниях в Азии и в геополитике «завтрашнего выбора».
Список литературы Сценарии возможного решения корейского вопроса: 38-ая параллель и глобальная парадигма смены «центров силы»
- Асмолов К.В. Южная Корея между США и КНР // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2021. Т. 26, № 26. С. 227–241. https://doi.org/10.24412/2618-6888-2021-26-227-241.
- Воронцов А.В. Позиция КНДР в отношении специальной военной операции России на Украине // Восточная аналитика. 2022. Т. 13, № 2. С. 32–35. https://doi.org/10.31696/2227-5568-2022-02-032-035.
- Гарусова Л.Н. Политика США в отношении Северной Кореи: возможности и риски // У карты Тихого океана. 2016. № 42 (240). С. 12–18.
- Забровская Л.В. Экономические реформы в КНДР, начало XXI века // Россия и АТР. 2005. № 4 (50). С. 78–86.
- Кожевникова А.Д. Корейский вопрос и перспективы его решения // Актуальные проблемы современных международных отношений. 2015. № 5. С. 93–99.
- Кривенко А.М. Корейский кризис и американо-китайские отношения // Власть. 2013. № 11. С. 176–179.
- Ланцова И.С. Политика США по отношению к Северной Корее: конец XX – начало XXI в. // Политическая экспертиза: Политэкс. 2014. Т. 10, № 4. С. 185–198.
- Лукин А.В., Пугачёва О.С. Корея в начале XXI века и интересы России // Международные процессы. 2020. Т. 18, № 4 (63). С. 143–157. https://doi.org/10.17994/IT.2020.18.4.63.6.
- Пугачева О.С. Межкорейские отношения: факторы и перспективы развития // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2021. Т. 14, № 1. С. 151–175. https://doi.org/10.23932/2542-0240-2021-14-1-8.
- Станонис А.Я., Лукин А.Л. Сотрудничество России и Республики Корея в области высоких технологий // Известия Восточного института. 2020. № 3 (47). С. 48–58. https://doi.org/10.24866/2542-1611/2020-3/48-58.
- Сурма И.В., Харланов А.С., Современная военно-политическая доктрина Японии и формирования региональной системы безопасности в АТР // Вопросы политологии. 2022. Т. 12, № 4 (80). С. 1208–1219. https://doi.org/10.35775/PSI.2022.80.4.024.
- Толорая Г.Д. Россия и проблемы Корейского полуострова на современном этапе // Вестник МГИМО Университета. 2014. № 4 (37). С. 82–91.
- Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной истории. М., 2008. 541 с.
- Трифонов К.Г. Российско-корейские торгово-экономические отношения // Корееведение в России: направление и развитие. 2020. Т. 1, № 1. С. 188–194.
- Хамутаева С.В. Раздел Кореи в американской историографии // Вестник Бурятского государственного университета. 2009. № 8. С. 261–264.
- Хамутаева, С. В. Раздел Кореи в южнокорейской историографии // Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 4-2 (68). С. 237–241.
- 오영일 극동//아시아 지역 검토 다양한 아시아에서 러시아-한국 협력의 효과를 차단 요인. 2018. 부 1,이스 3. 1-4 면 = О Ёниль. Факторы, блокирующие эффективность российско-корейского сотрудничества на Дальнем Востоке // Разнообразная Азия. Азиатский региональный обзор. 2018. Т. 1, № 3. С. 1–4. (на корейск. яз.)
- 한성수 러시아-북한 관계 발전 전망//한국통일연구소 온라인 시리즈 공동 14-22. 2014 년 서울 1-6 면 = Хён Сын су. Перспективы развития российско-северокорейских отношений // Труды Корейского института национального объединения. Онлайн-серия CO 14-22. Сеул, 2014. С. 1–6. (на корейск. яз.)
- Kharlanov A.S., Evans Ju.N., Sherysheva E.I., Boboshko A.A. New Tasks for Politology of 2020 Years of the Third Mille-nium // Practice Oriented Science: UAE – Russia – India. Part 1. Ufa, 2022а. Р. 123–127.
- Kharlanov A.S., Likhonosov A.G., Boboshko A.A., Evans J.N. Fundamentals of Military Power as the Hegemony of the State in the Architecture of the World Order: Features and Recommendations // Practice Oriented Science: UAE – Russia – India. Part 2. Ufa, 2022b. Р. 58–62.