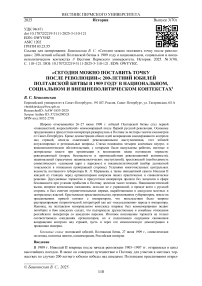«Сегодня можно поставить точку после революции»: 200-летний юбилей Полтавской битвы в 1909 году в национальном, социальном и внешнеполитическом контекстах
Автор: Бешкинская В.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Российская империя: страницы истории
Статья в выпуске: 3 (70), 2025 года.
Бесплатный доступ
Широко отмечавшийся 26‒27 июня 1909 г. юбилей Полтавской битвы стал первой «повсеместной, всероссийской» коммеморацией после Первой русской революции. Основные празднования в присутствии императора развернулись в Полтаве за полторы тысячи километров от Санкт-Петербурга. Кроме демонстрации общих идей возвращения самодержавного контроля над страной, некогда охваченной революционными выступлениями, этот юбилей актуализировал и региональные вопросы. Статья посвящена четырем ключевым внутри- и внешнеполитическим обстоятельствам, с которыми были вынуждены работать местные и центральные власти при организации и воплощении плана полтавских торжеств: революционный (вопрос безопасности и противодействия революционной активности), национальный (пресечение националистических выступлений), крестьянский (необходимость символического «единения царя с народом») и внешнеполитический (выбор деликатной тональности в отношении проигравшей стороны). Усилиями многочисленных центральных ведомств, полтавского губернатора Н. Л. Муравьева, а также инициативой самого Николая II каждый из стоящих перед организаторами вопросов нашел практическое и символическое решение. Двухдневные торжества в присутствии императора прошли без эксцессов в сфере безопасности при условии прибытия в Полтаву десятков тысяч человек. Националистический вызов, вопреки возможным ожиданиям, исходил не с украинской, а прежде всего с русской стороны и был смягчен ограничительными мерами, выработанными в дискуссии местных и центральных властей. Крестьянское представительство, организованное губернатором, имело на празднованиях прямой контакт с императором, что впоследствии было широко растиражировано патриотической литературой как акт «воссоединения» народа и императора. Наконец, на полтавском мемориальном комплексе впервые был коммеморирован подвиг погибших в бою шведских солдат, что подчеркнуло дружественные и семейные отношения российского императора со шведским королем. Итоговое воплощение торжеств не только соответствовало ожиданиям организаторов, но и подпитывало ощущение сановников возвращения контроля над страной, пусть и через его символическую демонстрацию в провинции империи.
Полтавский юбилей, Полтавская битва, 27 июня 1909 г., коммеморация, символическая политика, политика памяти, Российская империя
Короткий адрес: https://sciup.org/147252186
IDR: 147252186 | УДК: 94(47) | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-3-110-121
Текст научной статьи «Сегодня можно поставить точку после революции»: 200-летний юбилей Полтавской битвы в 1909 году в национальном, социальном и внешнеполитическом контекстах
В 1909 г. Николай II впервые после начала революции 1905‒1907 гг. отправился в цикл высочайших поездок. В июне он совершил путешествие в Полтаву для участия в местных торжествах по случаю 200-летнего юбилея победы над шведами. Полтавские празднования откры-
ли череду «юбилейных» поездок Николая по империи, в Ригу, Киев, Овруч и Чернигов. По воспоминаниям великого князя Константина Константиновича, императора с ликованием, «необыкновенным, давно не испытанным подъемом духа» (Дневник великого князя Константина Константиновича, 2015, с. 102), принимали в регионах.
С полтавских торжеств 1909 г. начался период максимальной интенсификации коммеморативной политики в истории Российской империи, который был в итоге прерван Первой мировой войной. При этом в отечественной историографии символической политики (см. [ Беш-кинская , 2024]) к сюжету полтавской битвы историки стали обращаться все чаще: первое внимание пришлось на рубеж 2000-х гг. [ Ульянова, 2002; Цимбаев , 1999], более чем через 10 лет с введением новых источников были уточнены обстоятельства подготовки и самого хода торжеств [ Павленко, 2012], проанализированы идеи торжеств, в том числе по сопровождавшим их печатным изданиям [ Лиманова, 2020], а также изучена роль Императорского Русского военноисторического общества в организации празднований [ Лизогуб, 2024]. При этом после ставшей классической в этом направлении работы Р. Уортмана о «сценариях власти» [ Уортман, 2004] феномен российских позднеимперских торжеств исследуется преимущественно на материале 300-летнего юбилея династии Романовых в 1913 г. (см. [ Рыжова, 2020, 2024]). Между тем первая в послереволюционной обстановке «повсеместная, всероссийская» военная коммеморация, к которой привлекались «обширные слои государства и общества» (РГИА. Ф. 433. Оп. 2. Д. 1372. Л. 2), случилась именно в Полтаве: четырьмя годами ранее и за полторы тысячи километров от имперской столицы.
В череде последовавших торжеств этот юбилей занял двоякое положение, вписываясь, с одной стороны, в формат многочисленных тогда (но, увы, еще не проблематизированных исследователями) локальных коммемораций, с другой - в ряд всероссийских торжеств (кроме Полтавы, специальные празднования проходили в Санкт-Петербурге, Архангельске, Воронеже, Костроме и других городах). Для подготовки юбилея была организована специальная межведомственная комиссия, определившая практики и механизмы, которые использовались в организации последовавших торжеств. Церемониал полтавского юбилея и его двухдневное воплощение, хотя и заслуживают внимательного рассмотрения, будут вынесены за пределы этой статьи. Военный характер в совокупности с участием императора определили форму этих торжеств: они не отличались большой оригинальностью символического действа, подчиняясь логике устройства мемориального пространства города и традиционных для подобных событий форм памятования.
Куда больший интерес представляет то обстоятельство, что в ситуации послереволюционной неопределенности самодержавие перенесло символическую активность за пределы имперских столиц. Полтавское торжество, как считает Уортман, было призвано символически утвердить связь царя с народом [ Уортман , 2004, с. 568] и определить образ Николая II как военного вождя, схожего по значимости с Петром I и Александром I [Там же, с. 573-574]. Официальной повестке следовало работать над образом великой империи с несокрушимой военной мощью в ситуации реальных внешнеполитических неудач и внутригосударственной политической нестабильности. При этом Петербург и Москва оставались к 1909 г. крупнейшими центрами революционного напряжения. Политический кризис Первой русской революции забрал у самодержавия имперскую столицу как арену для триумфального, безопасного и просчитанного символического действия. В новых обстоятельствах требовалось найти коммеморативный повод, утверждавший авторитет имперского правления и одновременно приемлемый в существовавших внешнеполитических координатах, а также пространство, безопасное для властного символического «спектакля». Выбор пал на 200-летнюю годовщину победы над шведами. Для демонстрации единения царя с народом и возвращения престижа власть предпочла пространство бывшей окраины империи.
Отстраняясь от формальных характеристик церемониала, автор в данной статье предлагает следующую гипотезу: отдельные решения и механизмы символической и практической реализации полтавских торжеств в 1909 г. могут быть объяснены не только через общую идею восстановления авторитета самодержавия в послереволюционный период, но и через регио- нальный и внешнеполитический контексты события. Для ее проверки необходимы контекстуа-лизация события, а также внимание к процессу подготовки и выработке финальной программы. В центре внимания этого текста находятся четыре вопроса, которые стояли перед организаторами полтавского юбилея:
-
1) революционный, где необходимость обеспечить безопасность императора в поездке и на месте, исключить провокации стала для полицейских ведомств серьезнейшим вызовом;
-
2) национальный, связанный с активностью как украинских активистов, так и российских националистов;
-
3) крестьянский, требовавший символически зафиксировать примирение («единение») населения некогда бунтовавшего края со своим царем;
-
4) шведский, заключенный в поиске деликатной внешнеполитической тональности торжеств по отношению к проигравшей 200 лет назад, но дружественной сегодня стороне.
Первая часть статьи сконцентрирована на предъюбилейной политической и социальной обстановке в Полтавской губернии, а также на взаимоотношениях российского императора и шведского короля. Во второй ‒ проанализированы стратегии властей по решению указанных выше вопросов.
Полтавская губерния в начале ХХ в.: региональный контекст организации общеимперских торжеств
Левобережье Днепра в XVII в. вошло в Московское царство и заняло окраинное положение, однако уже после присоединения земель Речи Посполитой оно приобрело новый статус. Малороссия, к которой относились Черниговская и Полтавская губернии, к началу ХХ в., в отличие от земель так называемого Западного края, в правовом отношении походила на центральные губернии империи. Так, земства здесь были учреждены одновременно с центральными регионами (в Западном крае их не было до 1911 г.), а местные земцы выделялись своей активностью. Регион представлялся спокойным: в сравнении с окраинными территориями, где были сконцентрированы основные армейские силы Российской империи, Малороссия по численности военного контингента приближалась к показателям внутренних губерний [ Velychenko , 2001, р. 358].
На рубеже веков Полтава была крупным губернским центром с насыщенной общественной и культурной жизнью. Концертные залы, новый театр на 1000 мест, государственные и частные учебные заведения, художественные и театральные общества [ Литвиненко , 2016, с. 74] – все это способствовало складыванию активного круга местной и приезжей (остававшейся на постоянное жительство или гастролировавшей) интеллигенции и общественных деятелей. К 1909 г. Полтавскую губернию населяло 3 млн 422 тысячи человек, из них Полтавский уезд имел 284 тысячи жителей (Обзор Полтавской губернии за 1909 год, 1910, ведомость № 9). В самом городе, согласно Переписи населения 1897 г., проживало 58 тысяч человек (Первая всеобщая перепись населения…, 1897, с. 17).
В XVIII в. в Малороссии утвердилась идея имперской России как «нового отечества», а самой Малороссии ‒ как локальной родины [ Котенко , Мартынюк , Миллер , 2012, с. 397]. Между тем со второй половины XIX в. регион испытывал влияние зарождавшегося украинского движения. Валуевский циркуляр 1863 г. и особенно Эмский указ 1876 г. резко сократили сферу, где разрешалось использование украинского (малорусского) языка в печати, что существенно ослабляло позиции «украинофилов». Однако еще до революции, в 1904 г., ограничения, наложенные на малорусское наречие, были сняты в результате ходатайства Академии наук, признавшей его самостоятельным языком, а с Манифестом 17 октября 1905 г. прекратил действие Эмский указ.
Украинские националисты заявляли свои права на Полтаву как украинский регион наряду с Киевом, Подольем, Волынью, Харьковом, Екатеринославом и Херсоном [Kotenko, 2013, р. 186]. В Полтаве в 1905 г. была учреждена одна из первых украиноязычных газет – еженедельник «Рідний Край» [Зыкун, 2014, с. 164]. Уже в 1906 г. существенная часть украинской прессы закрылась (преимущественно по финансовым причинам), однако «Рідний Край» продолжил свою работу. По мнению некоторых исследователей, с 1900 г. Полтава вслед за Харьковом также стала местом формирования особого архитектурного стиля – украинского модер- на, целью которого было «выражение идентификации украинской нации и возрождение народных традиций через архитектуру» [Savchenko, Shevchenko, 2023, р. 93].
Таким образом, Полтавская губерния была символически включена в украинский национальный проект. В 1903 г. здесь же произошли события, которые можно назвать первой манифестацией этого движения, – выступление на открытии памятника И. П. Котляревскому. В конце XVIII в. в Полтаве он написал «Энеиду» – первое литературное произведение на украинском (малорусском) языке. Поэма была шуткой и пародией на Вергилия, но утвердилась в среде зарождающегося украинского национального движения как знаковое произведение. Кот-ляревский стал для него основателем украинского литературного языка. На рубеже XIX‒XX вв. к столетию публикации поэмы начались обсуждения проекта установки памятника автору «Энеиды» в Полтаве, инициированные местными малороссами (малороссы здесь воспринимали себя как часть общерусской нации). Центральные власти одобрили идею. Котляревский в понимании имперских властей был лояльным малороссом, сторонником общерусской идентификации. Его фонетическая система малорусского наречия противопоставлялась «кулишовке» (фонетической системе, предложенной П. А. Кулишем, которая увеличивала дистанцию в отношении русского языка). Церемония открытия памятника проходила 30‒31 августа 1903 г., и ее попытались «перехватить» приехавшие в большом числе в Полтаву украинские националисты. Их идеей было собрать украинцев из различных регионов, в том числе из Австрии, для чествования Котляревского как знакового украинского писателя. В итоге многочисленные активисты «национализировали» праздник и вопреки еще действовавшему Эмскому указу выступали на украинском языке. Это спровоцировало скандал в прессе и новые дискуссии о «малороссах» и «украинцах» [ Kotenko , 2013, р. 233‒250]. Организаторы полтавских торжеств 1909 г., конечно, были в курсе событий шестилетней давности и должны были учитывать возможность провокаций.
С этим была связана еще одна очевидная проблема – безопасность и пресечение революционных выступлений. По агентурным сведениям, накануне торжеств в регионе действовали несколько организаций: Украинская социал-демократическая рабочая партия, Полтавская организация российской социал-демократической рабочей партии, Полтавская организации партии социалистов-революционеров, Полтавская группа анархистов-коммунистов (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 239. Д. 178. Л. 82‒89). Кроме того, полтавский губернатор Н. Л. Муравьев предполагал прибытие к юбилею в Полтаву до 60 тысяч «посторонней публики» с учетом того, что в обычное время к 27 июня к окрестностям города приезжало до 12 тысяч человек (Там же. Д. 178. Прод. 2. Л. 5 об.).
В революцию 1905‒1907 гг. Полтавская губерния привлекала к себе внимание многочисленными крестьянскими выступлениями и крупным восстанием в с. Великие Сорочинцы, родине Н. В. Гоголя (см. [ Портнягина , 2016]). В условиях крестьянских волнений в регионе активно выступали представители революционных движений. В Сорочинцах случилось крупнейшее в регионе восстание, завершившееся столкновением вооруженных крестьян с казаками, открывшими по первым огонь. Погибли около 20 человек. Советник губернского правления Ф. В. Филонов, прибывший позже с отрядом вооруженных казаков в Сорочинцы для выявления и ареста зачинщиков, по словам очевидцев, организовал этот процесс жестоко ‒ с избиениями и унижениями. За этим последовала громкая кампания в прессе, разоблачавшая действия властей. Возглавил ее публицист В. Г. Короленко, который поселился в Полтаве в 1900 г. Он обвинил Филонова в терроре. Тот стал получать письма с угрозами расправы, а через несколько дней после публикации был убит в центре Полтавы эсеровским боевиком. Общественность стала обвинять Короленко в субъективном освещении событий, приведшим к гибели человека. Против него и редактора «Полтавщины», где публиковались статьи, было возбуждено уголовное дело. Консервативная печать также вела информационную кампанию, доказывая, что Короленко необъективно освещал события в Сорочинцах, замалчивая действительный масштаб крестьянского движения и погромов, а также преувеличивая жестокость властей. Публицист вины не признавал, не раскаивался, назвав убийство «непрошенным вмешательством» в его план призвать Филонова к суду, а вину в его убийстве возлагал на власти [Там же, с. 40‒41]. Спустя два года, в январе 1907 г., дело, не получившее развития, было прекращено оправдательным приговором.
Эта история во многом типична для революции 1905‒1907 гг. Однако для Полтавы и само восстание, и убийство Филонова, и печатная борьба стали большим событием. Спустя несколько лет местные власти могли говорить о завершении революции, но не о победе над революционным движением, действовавшим в губернии. От его нейтрализации зависела сама возможность проведения празднований с присутствием императора.
Этому вопросу сопутствовал еще один – участие в празднованиях местных крестьян, совсем недавно радикализованных революционной пропагандой и нерешенным аграрным вопросом, громивших поместья и требовавших созыва Учредительного собрания. Идея «единения царя с народом» стала символической основой царствования последнего императора, так или иначе ее требовалось воплотить в празднованиях. При этом к 1909 г. была в разгаре столыпинская аграрная реформа, целью которой было преодоление кризиса перенаселения. Реформирование аграрного сектора предполагало наделение крестьян общегражданскими правами, что должно было способствовать складыванию в их среде новых экономических практик. Полтавская губерния показала себя как «передовой» регион, чье крестьянское население отличалось мобильностью и готовностью к преобразованиям, в частности она стала лидером империи по числу переселенцев [Давыдов, 2021, с. 399‒401]. Один из наиболее кризисных в аграрном отношении регионов стал за несколько лет примером эффективного правительственного реформирования. Это ослабляло напряжение между крестьянством и властью, в том числе местной, и позволяло рассчитывать на положительный эффект от вовлечения местного населения в торжества.
Последний очевидный вопрос, который стоял перед организаторами, имел внешнеполитическое измерение. Юбилей должен был символически засвидетельствовать либо близость, либо противостояние с побежденной стороной – шведами. На момент проведения торжеств полтавское мемориальное пространство не имело объектов, посвященных шведским воинам. С одной стороны, организаторы могли не менять этой ситуации и не начинать процесс комме-морации второй стороны, тем более что основная идея торжеств заключалась в конструировании преемственности военной мощи современной Российской империи с подвигами Петра I. В мае 1909 г. министр Императорского двора барон В. Б. Фредерикс прямо писал П. А. Столыпину о том, что «Государю Императору благоугодно посетить Полтавские торжества лишь для ознаменования чисто военных событий» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 239. Д. 178. Прод. 2. Л. 164). С другой стороны, Николай II и шведский король Густав V были друзьями и кузенами. После революции император впервые покинул Петербург, посетив именно Швецию, а уже следом отправился в Полтаву. Связывали две страны и особые внешнеполитические обстоятельства. В 1905 г. распалась шведско-норвежская уния; в процессе европейского обсуждения гарантий суверенитета Норвегии Россия решила поднять вопрос о демилитаризации Аландских островов, находившихся в ее составе после присоединения Финляндии. Между Россией и Швецией возникло напряжение. В конечном счете Густав V напрямую обратился к Николаю II с просьбой отложить решение вопроса: демилитаризованный статус островов был сохранен [ Востров , 2018, с. 118‒120]. В своем решении Николай II во многом шел против внешнеполитических интересов империи, но навстречу кузену. В 1916 г. Густав V писал «дорогому Ники» и вспоминал «с чувством искренней благодарности, что в 1908 году нависший над нами щекотливый вопрос об Аландских островах вполне удовлетворительно разрешен благодаря твоему личному вмешательству» (Дневники и документы из личного архива Николая II, 2003, с. 140).
Тем самым полтавские торжества имели довольно деликатный характер в силу близких отношений между правителями и политических взаимосвязей двух государств. Полтава была давним событием и не имела серьезной внешнеполитической коннотации на начало ХХ в., а семейные обстоятельства способствовали тому, чтобы проигравшая сторона в конечном счете была также представлена на празднованиях.
Таким образом, подготовка к празднованию победы в Полтавской битве 27 июня 1909 г. заставляла власти работать как минимум с четырьмя очевидными вопросами: украин-ским/малоросским, революционным, крестьянским и шведским. Чтобы понять подходы организаторов к этим проблемам, следует совокупно посмотреть как на подготовку, так и на отдельные аспекты воплощения плана юбилея.
«После Нарвы – Полтава. Мы русские, с нами Бог». Подготовка и воплощение полтавских торжеств
Подготовительные мероприятия к празднованию 200-летия Полтавской битвы начались на рубеже 1908‒1909 гг. К межведомственной работе были привлечены, кроме полтавских губернских властей и Военного министерства, Министерство внутренних дел, Морское министерство, Министерство финансов, Святейший Синод и Министерство народного просвещения. Председателем межведомственной комиссии был назначен член военного совета, генерал от кавалерии барон А. А. Бильдерлинг. Комиссия была представлена военной и административной элитой, высшими административными чинами государственных ведомств и представителями Императорского русского военно-исторического общества.
Документация по подготовке полтавских празднований сосредотачивалась на двух основных темах: вопросах безопасности и организации представительств в разрабатывающемся церемониале. Необходимость ликвидации революционной угрозы виделась первостепенной задачей.
Ответственным за безопасность передвижений Николая II в его длительных поездках по стране и, в частности, во время пребывания в Полтаве стал товарищ министра внутренних дел и командир корпуса жандармов П. Г. Курлов. Цикл высочайших поездок он называл серьезным практическим испытанием своих взглядов на систему политического сыска и ее практического проведения в жизнь ( Курлов , 1923, с. 137). Охрану по маршруту Николая II из Петергофа в Полтаву обеспечивали четыре губернских жандармских управления: Виленское, Киевское, Полтавское и Санкт-Петербургское (ГАРФ. Ф. 110. Оп. 5. Д. 920. Л. 9). Активно привлекались полицейские кадры из других регионов из-за их постоянной нехватки на местах.
С начала лета 1909 г. устанавливалось тщательное наблюдение на вокзалах «для недопущения поездок лиц террористического направления в г. Полтаву» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 239. Д. 178. Л. 22). По пути Высочайшего следования осматривались дома, проверялась благонадежность населения и шло выявление революционных организаций. Незадолго до торжеств были разрешены аресты неблагонадежных элементов с целью «вселить этим в революционную среду убеждение, что в настоящий период в Полтавской губернии революционной работой заниматься невозможно» (Там же. Л. 55 об.).
Для «полной осведомленности о настоящем настроении населения не только в г. Полтаве, но и по всей губернии» (Там же. Л. 31) было организовано специальное совещание полицмейстеров губернии и исправников. Отчитываясь в мае перед Департаментом полиции, начальник Харьковского охранного отделения утверждал, что «среди революционной среды ходят самые фантастические слухи о силах и средствах» Охранного отделения, поэтому революционная работа в регионе практически остановлена (Там же. Д. 178. Прод. 2. Л. 157). Указать на подобную остановку революционной деятельности должны дополнительные источники, однако факт проведения торжеств с участием десятков тысяч человек без инцидентов косвенно подтверждает громкие заявления о слаженной работе полицейских органов. Система охраны в период полтавских торжеств была организована Курловым и губернатором Муравьевым на высоком уровне. Прибывший на торжества в Полтаву московский губернатор В. Ф. Джунковский отмечал, что при массе народа в городе во время торжеств царил образцовый порядок ( Джунковский , 1997, с. 401). В своих воспоминаниях Курлов делился, что, обеспечив безопасность всех мероприятий, он испытывал чувство «нравственного удовлетворения», зная при этом, «какое облегчение и какую радость доставляли эти поездки царю» ( Курлов , 1923, с. 139).
Между тем даже при полной «остановке» революционной деятельность в регионе о событиях 1905‒1906 гг. напоминало еще одно неприятное обстоятельство: в июле 1906 г. в Полтаве восстали Елецкий 33-й и Севский 34-й пехотные полки. В череде более заметных восстаний (Кронштадт, Свеаборг) это выступление не нашло заметного отражения в прессе, но не было забыто властями. Накануне полтавских празднований память о восстании актуализировалась: путем долгих обсуждений было достигнуто высочайшее решение о помиловании Елецкого полка. Именно он почетным караулом встречал императора по прибытии в Полтаву. Послереволюционное примирение подчеркивало, с одной стороны, великодушие власти, с другой – «исправление» подданных, раскаявшихся и готовых, как прежде, служить царю и Отечеству.
Революционный вызов был тем самым преодолен организаторами и практически, и символически. Однако те же полицейские документы свидетельствуют о полном безразличии властей к возможным националистическим провокациям. Охранные ведомства не рассматривали украинское движение как возможную помеху для воплощения торжеств. Эта тема также не поднималась комитетом по организации празднований и Министерством Императорского двора. Столь повсеместное безразличие и молчание сопрягаются с риторическим оформлением празднований: в официозной печати и литературе Полтавский регион был представлен важнейшей частью имперского пространства, где, собственно, и было положено начало империи. Малороссия рисовалась беспроблемной лояльной территорией, а угроза выступлений приезжих украинских активистов, как в 1903 г., решалась общими ограничениями на въезд в город.
Не только украинский вопрос не фигурировал при подготовке торжеств, не упоминался малороссийский характер губернии. Полтавские торжества 1909 г. подчеркнуто описывались официозной печатью как «русское» событие. Член Императорского Русского военноисторического общества Н. Л. Юнаков в ряду многих историков активно транслировал официальный нарратив памятования о Полтавской победе: «Не чувствуют воины, что в двухсотлетнюю годовщину славной Полтавской победы к их братской могиле стекается с различных концов необъятной России русский народ, проникнутый единым стремлением – почтить память своих героев-предков. Не видят воины, как под влиянием воспоминаний об их подвигах в народе этом крепнет сознание его национальной мощи и как тысячи уст начинают шептать одни и те же чудные слова: “После Нарвы – Полтава. Мы русские, с нами Бог”» ( Юнаков , 1909, с. 20).
Русский национализм заявлял о себе не только риторически, но и практически: несмотря на то что любые виды политизации празднования пресекались организаторами, в торжествах было разрешено принять участие черносотенному Союзу русского народа (СРН). Муравьев передал свои соображения о присутствии на юбилее политических партий Бильдерлингу, указывая на то, что оно должно носить сугубо официальный характер, «в противном случае получилось бы некое параллельное неофициальное празднование», вносящее «осложнения» в официальную программу (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 239. Д. 178. Прод. 2. Л. 182‒182 об.). Между тем настойчивость СРН, а также активная работа созданной им специальной Комиссии по участию в Полтавских торжествах имели результат. Союз заявил о более чем 400 своих отделениях, изъявивших желание принять участие в празднованиях, называя цифры в 10 тысяч участников и 750 знамен. «Отделы деятельно готовятся к поездке, повсеместно идет сбор денег, устраиваются собрания, разъясняющие значение предстоящего юбилея, заготовляется даже провизия», – отчитывался перед Курловым председатель Комиссии СРН Э. И. Коновницын (Там же. Л. 194). В конце мая распоряжением Курлова членам Союза русского народа было позволено присутствовать у шведской могилы в ограде, представив при этом 75 знамен, а также 100 в специально отведенном месте за ее пределами (Там же. Л. 45). Общее число участников от союза неизвестно. Его лидер А. И. Дубровин ходатайствовал также о проведении 29 июня в Полтаве всероссийского съезда союза, в чем СРН было отказано. Формальной причиной запрета служило непредоставление Дубровиным необходимых сведений: числа приезжавших, места размещения и т.д. (Там же. Л. 220). Вероятно, за формальным отказом крылось противодействие возможности присвоения полтавского праздника, но на этот раз уже не украинскими, а русскими националистами. Характерно, что длительное обсуждение перспектив участия Союза русского народа было инициировано на локальном уровне, полтавским губернатором Муравьевым в последующем его общении со Столыпиным, тогда как центральная межведомственная комиссия под председательством Бильдерлинга в начале мая определила, что возражений против мартовской инициативы СРН не имеет (Там же. Л. 181).
Полтавский губернатор также занимался вопросом крестьянского представительства – одного из центральных элементов празднования, впоследствии широко растиражированного прессой. При этом Министерство Императорского двора и комиссия по подготовке торжеств никак не обсуждали и не планировали участия крестьян в празднованиях. По инициативе Муравьева, те привлекались в качестве зрителей. «В целях придания Полтавским празднествам желательного характера я вызываю до 4 тысяч с лишним крестьян со всей губернии с тем, что- бы они могли иметь счастье увидеть Государя и, вернувшись после торжеств по домам, внесли подъем патриотического духа и поделились бы со своими односельцами впечатлениями. Вызываю их с таким расчетом, чтобы из каждого села Полтавской губернии был выборный на торжествах», – формулировал задачу губернатор (РГИА. Ф. 472. Оп. 45. 1909. Д. 46. Л. 172). Для этого он издал обращение к сельским жителям о выборах представителей, которые должны были организовать земские начальники. В обращении подчеркивалась поколенческая связь населявших губернию крестьян с предками, сражавшимися за самодержца и государство: «Ваши предки проливали свою кровь на полях Полтавской битвы за Царя и Россию, и я твердо верю, что Вы – потомки их, изберете представителей достойных лицезреть Царя и сумеющих поддержать должный порядок на торжествах» (Там же. Л. 174).
Крестьяне были расположены в народном бивуаке, куда в первый день празднований вечером 26 июня по личной инициативе прибыл Николай II. Как писала впоследствии патриотическая литература, каждый крестьянин «понимал, какую великую историческую минуту он переживает. И Царь, и народ Его всем сердцем чувствовали, что здесь, более чем где-либо сегодня и когда-либо, Царь находился среди народа Своего, что народ тесно окружает Царя своего, что все они живут одной жизнью, что бьется у них одно русское сердце» (Царь на полтавских празднествах…, 1909, с. 34). Очевидцы рассказывали, что император обращал внимание на костюмы крестьян, различая по цветам их принадлежность к разным уездам и выражая «удовольствие тому, что они не бросают своих национальных костюмов» ( Джунковский , 1997, с. 402). Этот эпизод по-своему выполнил задачу символической демонстрации «единения». Вместе с тем при вытесненном из повестки празднований национальном вопросе он проиллюстрировал заинтересованность и благожелательность императора не только к крестьянам как к сословию, но и к малороссам как к культурному сообществу.
Внешнеполитическое измерение празднований также не осталось без внимания. Среди множества заявленных для приветствия императора депутаций была допущена группа от Полтавского евангелически-лютеранского общества, представлявшего одну из наиболее незаметных групп населения губернии: численность лютеран в 1909 г. составляла около 700 человек (Обзор Полтавской губернии за 1909 год, 1910, ведомость № 9). При этом в составе привлеченных к празднованиям учащихся Петербурга были представители четырех училищ при петербургских евангелически-лютеранских церквях (РГИА. Ф. 733. Оп. 196. Д. 241. Л. 130). В этом видится предполагаемое доброжелательное отношение к проигравшей в Полтавской битве стороне. Кроме того, на торжествах присутствовали представители королевского шведского консульства. Наконец, был открыт памятник шведским воинам у шведской могилы.
«Памятник шведам от русских» был установлен к празднованиям в двух верстах от существовавшей прежде братской могилы русских воинов. Там после битвы было захоронено больше 13 тысяч шведов, погибших при Полтаве, однако вплоть до 1909 г. это место не имело даже надгробия. Инициатива по открытию памятника исходила от российской стороны, его установку взяло на себя Восточно-Финляндское гранитное акционерное общество. Памятник представлял собой гранитный крест на высоком пьедестале с надписью на двух языках: «Вечная память храбрым Шведским воинам, павшим в бою под Полтавой 27 июня 1709 года». По изначальному проекту крест памятника следовало выполнить в обрамлении, однако император приказал сделать «простой» крест (Там же. Л. 59), более нейтральный. При этом недалеко от креста, по шведской инициативе, «шведам от шведов» была установлена гранитная глыба, также с надписью на двух языках: «В память шведам, павшим здесь в 1709, воздвигнут соотечественниками в 1909». При всем внимании властей и самого императора к проекту установки памятника с русской стороны программа празднования не предполагала его посещения, хотя памятник был расположен близко к прочим памятным местам. Между тем выбранная тональность в репрезентации побежденной стороны и ее мемориальное закрепление сделали спустя 200 лет поле Полтавской битвы и шведским местом памяти.
Заключение
Каждый из вопросов, стоявших перед организаторами полтавского юбилея, нашел то или иное решение и воплощение в программе торжеств. Первоочередное место занимала проблема организации безопасного юбилейного пространства, свободного от возможных революционных, террористических выступлений. Эта задача была важнейшей в послереволюционной ситуации, когда Николай II впервые выезжал по России за пределы столицы, и усилиями полицейских сил, собранных из многих регионов страны, торжества прошли без инцидентов. Демонстрация гостеприимства и преданности была сопряжена с тем, в какой мере император мог свободно и безопасно чувствовать себя в среде своих подданых различных сословий. Усилиями Курлова и губернатора Муравьева, а также благодаря личной инициативе императора удалось практически и символически утвердить близость правителя крестьянскому сословию, демонстрировавшему лояльность и восхищение. Между тем остался практически не проговоренным и вытесненным национальный вопрос, который в начале века обострился с нарастанием украинского национального движения. Можно ли считать это проигрышем власти? ‒ вопрос противоречивый. В практическом отношении организаторы выиграли, поскольку двухдневные празднования прошли гладко ‒ без эксцессов в сфере безопасности и какой-либо демонстрации украинских сил. Мягко был решен и внешнеполитический вопрос: отдавая должное шведам установкой памятников и допущением представительств, организаторы не сделали специальных акцентов в программе на проигравшей стороне, сосредотачивая юбилей исключительно на чествовании победы русского оружия.
В какой мере все это имело необходимый общественный эффект (и в какой мере на него рассчитывала власть) – предмет отдельной статьи. Для официозной прессы и просветительской печати празднования дали огромный материал. Юбилей для них засвидетельствовал, что император продолжает быть «хозяином земли русской»: принимать уверения в верноподданнических чувствах от представителей всех сословий (кроме, однако, рабочих), наблюдать «блестящего вида» войска, демонстрировать свою преемственность с Петром Великим – и все это в губернии, бывшей некогда окраиной империи.
Небывалая активизация коммеморативной политики самодержавия после Первой русской революции, ее прагматика, действующие акторы, содержание и практики заслуживают внимания, прежде всего в фокусе ее переплетения с политикой «реальной». Полтавский сюжет позволяет увидеть стратегии центральных и местных властей в символическом и практическом разрешении вопросов, которые могли обостриться в процессе или впоследствии воплощения торжеств. Полтавский «спектакль» вместе с путешествием императора в Малороссию из столицы воплотили сценарий символического возвращения самодержавного контроля над территорией империи, а также ее безопасности, благополучия и, конечно, героического прошлого, которое должно продолжиться и в настоящем. «Россия только что пережила времена невзгод, но я верю, что отныне она вступит на путь развития и благоденствия и что будущим поколениям легче будет жить и служить своей Родине, а для этого нужно, чтобы все верные мои подданные помогали своему Государю», – говорил Николай II в праздничной речи ( Джунковский , 1997, с. 403). В свою очередь, присутствовавший в Полтаве Столыпин поделился своим мнением о торжествах с великим князем Константином Константиновичем по их окончании 27 июня: «Сегодня можно поставить точку после революции» (Дневник великого князя Константина Константиновича, 2015, с. 103).
Эту оценку нельзя подтвердить и опровергнуть: характер и продолжительность русской революции составляют предмет дискуссии многих историков, в которой, вероятно, никогда не будет поставлена точка (см. [ Стейнберг , 2018]). Однако 1909 г. стал для власти и ее сановников моментом вспыхнувшей надежды на то, что кризис остался позади. Полтавский юбилей подкреплял их веру в будущее. Вероятно, этим он выполнил свою основную задачу.