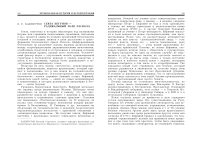Секта бегунов - радикальный толк раскола
Автор: Бахмустов Евгений Сергеевич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Региональная история и историография
Статья в выпуске: 1 (62), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается суть самого радикального течения инакомыслия - секты бегунов. Анализируются их практики, адаптационная деятельность; показан диапазон его развития.
Короткий адрес: https://sciup.org/147223027
IDR: 147223027
Текст краткого сообщения Секта бегунов - радикальный толк раскола
Секта, известная в истории инаковерия под названиями бегуны, или странники (подпольники, скрытники, скитальцы и др.), является одним из поздних проявлений беспоповских согласий и последних звеньев в цепи расслоения и трансформации беспоповского крыла Раскола. Дифференциация беспоповцев на различные группы вызвана разногласиями между старообрядческими харизматическими начетчиками, ослаблением строгостей и отступлением в основном согласии установленных правил, прежде всего этических. Человеческий фактор вкупе с отсутствием четкой организационной структуры в беспоповстве привели к упадку поморства, а затем и его преемника, гораздо более радикального и неуступчивого филипповского толка.
Несмотря на весь спектр «жесткости», демонстрировавшейся филипповцами, нашелся проповедник, который пришел к заключению, что и они пошли на соглашательство «со властью антихриста». В послепетровскую эпоху «древлее благочестие» взялся охранять бывший солдат Евфимий, основатель новой секты — одной из самых непримиримых и воинственных в истории религиозного инаковерия в России — секты бегунов.
Уроженец Переяславля Залесского, Евфимий несколько лет прожил среди филипповцев Москвы. Наблюдая своих одноверцев, он вскоре пришел к выводу, что они двурушнически пошли на компромисс с мирским и духовным начальством и подчинились «законам градским». Составив так называемое «Разглагольствование» из 39 вопросов, он послал свое сочинение-запрос московским вождям филипповцев А. Балчужному, Н. Спицыну и др., настаивая на объяснении их соглашательства и неувязки теоретических вероисповедальных постулатов с практикой отношений с «антихристовым воинством». Не получив ответа, Евфимий выступил с проповедью полного социального нигилизма и
БАХМУСТОВ Евгений Сергеевич, аспирант кафедры философии для гуманитарных факультетов Мордовского государственного университета.
анархизма. Основой его учения стало олицетворение антихриста в конкретном лице, а именно — в недавно умершем императоре Петре I. Евфимий не был в этом оригинален: к такому же выводу приходили и расколоучители конца XVII — начала XVIII в., и еретик Григорий Талицкий, казненный за учение о Петре-антихристе. Евфимий оказался в этом вопросе не менее последовательным, чем предшественники. Более того, он распространил антихристово клеймо на всю власть: «Апокалиптический зверь — есть царская власть, икона его — власть гражданская, дело его — власть духовная», — учил новый проповедник богословских крайностей. Поэтому, по логике Евфимия, следовало порвать всякую связь с обществом и государством, не брать паспортов, не идти на военную службу, не обращаться в суд, не платить налоги, но «достоить таитися и бегать», то есть не иметь дома, семьи, а только постоянно скрываться и избегать всякой связи с людьми, носящими печать антихриста, в том числе и со старообрядцами. Так зародился новый толк странников, или бегунов, который сначала развивался в знаменитом за столетие перед этим своими гарями Пошехонье, на юге Ярославской губернии. В отличие от филипповцев, учивших, что от преследования властей надо спасаться в огне гарей, бегуны проповедовали, что от преследований надо просто бежать.
Бегуны никогда не отличались многочисленностью, но сразу после своего появления при Екатерине II быстро распространились в Костромской, Ярославской, Олонецкой и Владимирской губерниях, чуть позже — в Тверской, Вологодской губерниях и в Западной Сибири, а в XIX в. и в нескольких губерниях Среднего Поволжья.
Новое согласие дошло до крайности в деле отрицания устоев окружающего мира. Все существовавшее на Руси, говорило это учение, или произведено антихристом, или заклеймено его скверной печатью: учреждения, установления, порядки, обычаи, образ жизни, разговоры и т. д.1 По учению бегунов считалось грехом даже жить среди православного населения, равно как среди раскольников другого толка или согласия. В 1772 г. Евфимий пришел к заключению, что подлинный «православный» должен сам принимать новое крещение и при этом сам себя крестить, чтобы быть уверенным, что никто, связанный с антихристом, не оскверняет таинства.
Неофитам Евфимий объяснял, что тот, «кто измывается в истинной купели Христа Бога», поистине воскресает и чист и светел от тьмы бывает; кто же во антихристову купель измыватися слазит, то ровно в кал главня омочится, паче скверней и смрадней оттуда возникает... Все, которые во Христа крещаются, в правду и премудрость облачаются, а те, которые в сатану погружаются, облачаются в стыд и срамоту». При этом он ссылался на текст из слова Кирилла Иерусалимского о еретическом крещении2.
По своему поведению бегуны отчасти напоминали монахов, что признавали и исследователи, видевшие параллель между бегунскими начетчиками и иноческим священством. «Сан свой странники считают иноческим, и поэтому все мужчины и женщины обязуются вести жизнь безбрачную и целомудренную по древнему уставу Соловецкого монастыря... Странники-мужчины обыкновенно называются между собой братьями и старцами, а женщины — сестрами и старицами», — отмечал в своем труде об инаковерии архимандрит (впоследствии митрополит) Макарий3.
Отдельно стоит сказать о вопросе безбрачия в учении бегунов. Подобно монашескому уставу, учение сектантов-странников отрицало возможность брака, но в отличие от православных, для которых брак — священный союз перед Богом, брак для бегунов «больший грех, чем блуд», потому что «общение с законною женой не осудят, потому с ней легче и грешить, а блуд осуждают, и тем отчасти искупляют грех» жизни в браке. Впрочем, за блуд полагалась епити-мия, составлявшая, кроме строгого поста, множество земных поклонов на братской трапезе4. Даже сам Евфимий в этом отношении был небезгрешен. Известно, что его всегда сопровождала некая крестьянка Ирина Федорова. Следовательно, он, подобно большинству беспоповцев, снисходительно смотрел на блуд («не согрешишь — не покаешься»), но строго осуждал законный брак и семейную жизнь.
Говоря об объективных причинах такого жесткого принципа безбрачия, стоит упомянуть интересный факт. В некоторых местностях, где позже укрепились бегуны, существовал обычай брать с крепостных женщин откупные по 100—150 руб. за право не выходить замуж за немилого. В таких местах у секты бегунов всегда находились активные сообщники5. Рассуждая об объективных причинах появления бегунства, нельзя не обратить внимания на политико-географический фактор. Одной из причин начала бегунства сам Евфимий называл петровские ревизии. Он замечал, что «описью Петр хотел собрати народ в единую крупу и в руке его держати»6. От этой руки и бежали странники в леса. Кроме всего прочего, имело значение и то, что центром бегунства являлась Ярославская губерния — промышленный и зажиточный край. Оставляя женщинам домашние и полевые работы, многие ярославцы шли в города и там оседали, зарабатывая более легкие, чем хлебопашеские, деньги. Это поголовное скитальчество ярославского населения нельзя не сопоставить если не с происхождением, то хотя бы с распространением секты бегунов. Таким образом становится понятно, почему некоторые исследователи называют странников порождением Раскола и трактирной цивилизации7.
После смерти Евфимия в 1792 г. его преемником стал крестьянин Крайнев, который для привлечения большего числа сторонников счел за лучшее несколько ослабить аскетические требования Евфимия в угоду богачам и молодежи. Крайнев предлагал: «Можно быть Христовым человеком и не расставаясь с деньгами, лишь бы кормить и давать приют действительным странникам». Этим было положено начало новому этапу в истории секты бегунов — «жиловому странничеству» (что даже по названию звучит абсурдно) или странноприимничеству. Теперь одни перекрещенные в бегун-скую секту живут оседло, на виду и в семье, другие живут у них в подполах или находят ночлег, стол и кров.
Это сразу вызвало раскол в среде самой секты. Крестьянин Василий Петров с единомышленниками восстал против владения имуществом и денег, основав толк «безденеж-ников». В это же время появилось еще одно любопытное согласие — «статейники», которые ввели особую странническую иерархию, во главе которой стоял основатель согласия под почетным званием патриарха. Однако влияние Крайнева и его привлекательных нововведений оказалось сильнее: «жиловое странничество» утвердилось и вытеснило все остальные толки.
Крайневское новшество, как полагают некоторые исследователи, положило начало моральному разложению секты. Теперь сочувствующие, нередко состоятельные люди, охотнее помогали бегунам, среди которых появлялось все больше жуликов и аферистов. «У странноприимцев странники складывают захваченное ими при побеге из общества; сюда же стекаются разные подаяния, производимые часто в больших размерах богатыми людьми для содержания странников»8. «Понятно таким образом становится, почему в народе смотрят на странников как на людей высшего разряда, почему эти странники, очевидно нередко ловкие плуты и хитрецы, умевшие извлекать из души народа свою пользу, обыкновенно находимы были одетыми, несмотря на свое убогое странничество, очень хорошо и даже роскошно для своего быта», — это обстоятельство подмечали многие исследователи Раскола9.
С 30—40-х гг. XIX в. пропаганда бегунства заметно усилилась. С одной стороны, причиной этому стала большая неразборчивость и снисходительность при приеме в секту. Ряды бегунов широко пополнялись беглыми каторжниками, дезертирами, не помнящими родства, распутными женщинами, высланными из сельских обществ и т. п. С другой стороны, в это время явились особенно деятельные и начитанные наставники бегунов — Кувшиновы и Никита Семенов. Ярославский крестьянин Никита Семенов даже писал сочинения, в которых доходил до такой мысли: «Крест терпения, носимый странниками, важнее креста Христова, которым искуплен и спасается грешный род человеческий».
С пополнением бегунской секты всякими отщепенцами в ней расцвели разврат и преступления. В 50-х гг. XIX в. бегуны активно занимались разбоем в Ярославской губернии, что вызвало особые экспедиции, снаряженные правительством. В это время странничество преимущественно распространялось в Поволжских губерниях: Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской и Астраханской, особенно в двух последних, так как многочисленные рыбные ватаги охотно принимали беспаспортных.
Как утверждал С. Пономарев, в Пензенский край бегуны проникли из Саратовской губернии, густо заселенной старообрядцами разных толков. Как и в других случаях, ересь попала в край через отходников, причем первыми бегунами стали бывшие сектанты Спасова согласия10. Странничество однако не смогло здесь широко распространиться, но крепко осело в с. Соколовке Саранского уезда (80 душ), а также в Городищенском уезде в с. Мордовский Качим (до 9 душ),
Аришка (7 душ) и особенно Козарка (до 100 душ)11. Статистический учет старообрядцев, особенно сектантов, страдал неточностью, что уж говорить о бегунах, для которых скрываться от учета стало смыслом жизни. Даже страннопри-имников подсчитать было почти невозможно, так как они или уклонялись от учета, или, что гораздо чаще, врали о характере своего вероисповедания. Определить местонахождение бегунов можно было лишь по внешним наблюдениям (например, в доме жило 4 чел., а белья стиралось на 10), либо их ловили случайно.
Есть возможность проследить судьбу бегунов с. Соколовки. Впервые бегуны зафиксированы здесь в октябре 1884 г. Арестант Григорий Музыкалин, сидевший в саранской тюрьме, сообщил, что в его родной Соколовке у крестьян Никиты Малыгина и Ивана Страдымина в специально устроенных подполах проживают неизвестные лица из разных местностей и ведут себя подозрительно. Дознание показало, что такие подполы действительно существуют. В них были найдены различные богослужебные реквизиты. Там же проживали в общей сложности 7 чел. из Соколовки и из сел других уездов и губерний. Из них две сектантки до последнего момента утверждали, что родились на небе, а 30 сентября спустились в подпол одного из домов Соколовки (дознание показало, что обе они уроженки с. Ковалейки Городищенского уезда, и что фамилия их Данилины). Подполья были запечатаны, все найденные лица разосланы по местам рождения. История однако на этом не закончилась. Малыгин и Страдымин настойчиво просили распечатать их избы и позволить им открыто совершать свои сектантские богослужения. Их просьба вызвала необходимость в более подробных справках о новой для Саранского уезда секте, для чего в Соколовку был направлен миссионер священник с. Пятина Саранского уезда Порфирий Зарин12. В ходе беседы с Соколовскими старообрядцами (на тот момент там было до 200 старообрядцев — главным образом Спасова согласия и значительная община молокан) миссионеру удалось выяснить, что новые сектанты учат о господстве в мире антихриста и во властях видят его главных слуг. Учат, что нужно бежать и скрываться от мира, преисполненного духом антихриста. Сами сектанты наотрез отказались общаться с православным миссионером. Несмотря на общую неприязнь большей части населения села к новым сектантам, их число быстро росло и к 1886 г. по официальным данным уже составляло 38 чел. только местных, так как сектанты-чужаки село покинули13. Однако некоторые местные исследователи, например А. Л. Хвощев, небезосновательно считали эти цифры заниженными. Подсчет бегунов по понятным причинам затруднялся, а иногда вовсе был невозможен. А. Л. Хвощев приводил цифру, более чем вдвое превышавшую официальную.
Однако ультрарадикализм секты бегунов выражался не только в яром отрицании Русской Православной Церкви и общественного уклада в целом. Анализ ряда работ по истории секты заставил обратить внимание еще на одну особенность, на которой авторы не заостряли внимания или подвергали ее сомнению. Однако постоянное упоминание в разных источниках одного и того же термина «красная смерть» невольно наводит на соответствующую мысль. Слухи о том, что колеблющихся в своих рядах бегуны подвергали «красной смерти», т. е. удушению специальной красной подушкой, слишком часто встречались в разных исследованиях. С. Зеньковский полагал, что «эти рассказы, видимо, обосновывались на фантазии врагов бегунов»14. Опять же неподтвержденные данные приводил священник с. Соколовки П. М. Соколов: «Говорят, что некоторые из бегунов, желая избавиться от новорожденных детей, морят их голодом или душат, предварительно окрестив»15. И снова о детях: «Странническая жизнь не допускает брака. Если странники приживают детей — бремя их скитальческой жизни — то избавляются от них всеми способами. Раз в одной местности, населенной бегунами, при чистке пруда найдено было 30 младенческих тел, и это при том, что в иных страннических местностях из 50 беременных женщин рождают только пять»16.
Несмотря на относительно слабое распространение секты бегунов на территории современной Мордовии, представляется, что утверждение типа: «бегуны стали курьезным эпизодом, местечковой экзотикой в нашем крае» является сильным преуменьшением. Несколько приведенных фактов изуверства бегунов, случившихся уже в конце XIX в., доказывают, что изуверства среди раскольников не прекратились даже в эпоху активного развития единоверчества и лояльного отношения к старообрядцам в целом. Если не все толки могут быть признаны фанатичными и способными на изуверства, то, несомненно, таким толком должен быть признан толк странников, или бегунов, один из наиболее крайних по своему учению.
Список литературы Секта бегунов - радикальный толк раскола
- Пономарев С. Секта бегунов // Пензенские епархиальные ведомости. 1886. № 6. С. 10
- Там же. С. 12
- Макарий, митр. История русского раскола, известного под именем старообрядчества. СПб., 1889. С. 309-310.
- Там же. С. 309.
- Андреев В. В. Раскол и его значение в народной русской истории. СПб., 1870. С. 176.