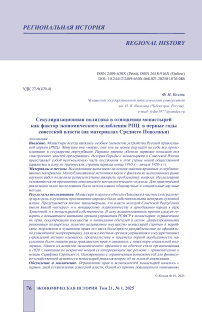Секуляризационная политика в отношении монастырей как фактор экономического ослабления РПЦ в первые годы советской власти (на материалах Среднего Поволжья)
Автор: Козлов Ф.Н.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Региональная история
Статья в выпуске: 1 (68) т.21, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Монастыри всегда являлись особым элементом устройства Русской православной церкви (РПЦ). Живущие вне «мира», они тем не менее ощущали на себе все происходившие в государстве пертурбации. Нередко именно обители первыми попадали под «настроение» властей предержащих. История борьбы с монастырями в Советской России представляет собой неотъемлемую часть построения в этой стране новой общественной парадигмы и одну из трагических страниц периода конца 1910-х - начала 1920-х гг.
Русская православная церковь, монастыри, среднее поволжье, секуляризация имущества, изъятие земли, вскрытие мощей серафима саровского, закрытие монастырей
Короткий адрес: https://sciup.org/147247933
IDR: 147247933 | УДК: 27-9(470.4) | DOI: 10.24412/2409-630X.068.021.202501.076-086
Текст научной статьи Секуляризационная политика в отношении монастырей как фактор экономического ослабления РПЦ в первые годы советской власти (на материалах Среднего Поволжья)
Монастыри всегда являлись особым элементом устройства Русской православной церкви (РПЦ). Справедлива констатация С. В. Чадаевой, что православный монастырь «уникален по многообразию и важности выполняемых им социальных и культурных функций»; он «был и будет одной из наиболее представительных и значимых организаций, выступающей хранителем духовных традиций и распространителем их» среди народа [10, с. 6–7]. При этом в эпоху крупных трансформаций в жизни страны именно монастыри первыми ощущали на себе всю тяжесть изменяющегося положения и «внимание» властей. Например, Петр I в монашестве видел явного «противника своих преобразований» [9, с. 54]. И он, и последующие правители пытались поставить жизнь обителей под жесткий государственный контроль путем регламентации численности братии, формата управления монастырями, ограничения их экономического потенциала через сокращение финансирования и даже прямую секуляризацию имущества. Лидеры Советской России, как видим, были далеко не новаторами, но именно они довели идею до крайности (полной ликвидации института монашества как такового) и пытались претворить ее в жизнь. История борьбы с монастырями в Советской России представляет собой неотъемлемую часть построения в этой стране новой общественной парадигмы и одну из трагических страниц периода конца 1910-х – начала 1920-х гг.
Материалы и методы
Исследование выполнено на основе массива архивных и опубликованных материалов. Архивные документы извлечены из фондов трех региональных хранилищ: Государственного исторического архива Чувашской Республики, Государственного общественно-политического архива Нижегородской области и Центрального государственного архива Республики Мордовия. Неопубликованные источники вкупе с фактами из выполненных ранее научных работ позволили репрезентативно раскрыть проблематику вопроса.
Исследование основывается на применении комплексного методологического подхода. Эмпирический уровень составило выявление и изучение фактического материала в архивах и опубликованных источниках, а также выполненных к настоящему времени в исторической литературе наработок по проблеме, находящейся в фокусе внимания. Для практической реализации исследования были использованы общенаучные и специальные научные методы. Применение философского принципа «диалога мировоззрений» позволило выстроить конструктивную модель учета разнонаправленных точек зрения (прежде всего государства и церкви как взаимодействующих институций). Через историкосистемный и проблемно-хронологический подходы ситуация в Среднем Поволжье была «вписана» в общий контекст государственноцерковных отношений в соответствующий период отечественной истории.
Результаты исследования
Советская власть уже в первые месяцы своего существования поставила монастыри и их насельников фактически вне закона. Причем удар по этой группе был даже сильнее, чем по большей части других «нетрудовых элементов». Справедлива, на наш взгляд, высказываемая исследователями точка зрения, что партийно-государственные лидеры правильно расставили приоритеты, воспринимая монашество как главный оплот православия [2, с. 330]. Монастыри в целом и обители Поволжья в частности играли ведущую роль в духовном просвещении народа и были действительными центрами духовной жизни, куда стекались тысячи паломников в поисках моральной и нравственной поддержки. Почти в каждом из них была школа, во многих – богадельни и миссионерские приюты1. «Мне пришлось посетить немало различных мест России, и на основании многочисленных наблюдений я должен сказать, что где в самом городе или селении или недалеко от них есть монастырь, особенно же из наиболее известных, там религиозное чувство населения живее и доступнее для духовного воздействия», – так передавал свои впечатления присяжный поверенный Московской судебной палаты Н. Д. Кузнецов, выступая в 1906 г. с докладом перед 4-м отделом Предсобор-ного присутствия по вопросу о церковных недвижимых имениях в России2.
Представляется вполне закономерным, что власти молодой Советской Республики имели явный интерес и к монашескому подвижничеству в приобщении народа к вере Христовой, и к монастырской собственности. Только этот интерес в обоих случаях был специфический: внимание обращалось как раз для того, чтобы по обоим пунктам разгромить конкурента в борьбе за умы и сердца. Результативная реализация планов обеспечила бы, с одной стороны, устранение одной из возможностей противодействия распространению собственной идеологии, а с другой – решение стоящих перед властями экономических проблем путем перераспределения средств по известному принципу сообщающихся сосудов («отобрать здесь и передать туда»).
В силу вышеизложенных причин следует говорить о повышенном внимании органов управления РСФСР к монастырям: ограничению их прав, секуляризации имущества и ликвидации обителей в целом. Так, Декрет СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» закрепил положение о том, что «никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью», а все их имущество объявил «народным до-стоянием»3. Следующий удар был нанесен принятой 10 июля 1918 г. Конституцией (Основным законом) РСФСР. Она лишила насельников, наряду с целым рядом других категорий, такого неотъемлемого атрибута гражданства, как право избирать и быть из-бранными4. Подобное ограничение, будучи прежде всего политическим шагом, одновременно влекло за собой экономические последствия. Государство в условиях режима военного коммунизма, с одной стороны, не распространяло на них нормы какого-либо социального обеспечения (фактически ставя в этом плане в положение изгоев), а с другой – накладывало обязательства по поставкам продовольствия и товаров первой необходимости.
Так, Казанский губернский продовольственный комитет распоряжением от 10 ноября 1919 г. обязал насельниц Цивильского Богородицкого Тихвинского женского монастыря «сдавать все молоко в губернский продовольственный комитет». Подобное решение вызвало негативную реакцию как 246 монахинь и послушниц, так и религиозной общины монастыря, постановившей «выразить протест против решения губ-продкома» и «возбудить ходатайство об освобождении монастыря от обязанности доставлять молоко», так как последнее «при отсутствии других питательных средств и недостаточном количестве хлеба» является основным средством поддержания насельниц5. Имеются факты, когда советские органы управления «просили» помощи того или иного монастыря в снабжении собственного аппарата. В качестве примера можно назвать поступившее в 1918 г. настоятелю Свято-Успенской Саровской мужской пустыни «ходатайство» отпустить хлеб на содержание милиционеров Темниковского уезда, а для нужд отдела здравоохранения Краснослободского уезда шли сливки из местного Спасо-Преображенского мужского монастыря6. В условиях возрастающего дефицита всего и вся по причине остановки отечественного производства, сворачивания торговых операций и прекращения импорта происходило прямое изъятие различных «излишков» из монастырских хозяйств. Региональные структуры ВЧК, продовольственные комитеты и другие органы просто экспроприировали выявленные в результате обысков неучтенные продовольственные и непродовольственные товары7.
При этом все обязательства и прямые изъятия проходили на фоне неуклонного сокращения базы для воспроизводства монастырями средств к существованию. Реальная ситуация к тому времени складывалась так, что обители (как и церковные причты) оказа- лась в положении бесправных наблюдателей и исполнителей вместо выполнявшейся некогда функции «властителей дум». Последнее не является сильным преувеличением, поскольку один из выдающихся отечественных философов начала ХХ в. проницательно заметил: «Тени монастыря – в каждой черте христианства: в живописи, иконах, музыке, напевах, в законах, ритуалах, характере духовенства, нравах, обычаях, политике, во всем, во всем!»8 Однако события Октября 1917 г. кардинальным образом изменили картину мира.
Фактически вышеназванный Декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства…» закрепил уже действующее положение другого нормативного акта советского правительства – Декрета II Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов «О земле». Принятый 28 октября 1917 г. документ обобществил движимое и недвижимое имущество монастырей. Здесь принципиально отметить, что один из первых законодательных актов нового правительства не покушался на собственно религиозные представления крестьян, а делал упор на «самый волнующий для крестьянства тогда вопрос о земле»9. Это, с одной стороны, позволяло не провоцировать (по крайней мере в первое время) негатива к инициативам большевиков, а с другой – закрепить «свое идейное влияние в крестьянских массах»10, удовлетворяя вековые чаяния последних. Важно отметить, что призывы к «конфискациям» и «отобранию» монастырских земель в Поволжском регионе известны уже в период Первой русской революции 1905–1907 гг.11 При этом вышеназванный советский декрет лишь узаконил уже начавшуюся экспроприацию церковного и монастырского землевладения, инициированную самими же большевиками в период Временного правительства. С лета 1917 г. большевистские агитаторы активно занимались разъяснением партийной линии, следствием чего стали многочисленные приговоры крестьянских сходов, постановления волостных земельных комитетов и уездных съездов крестьянских депутатов с требованием отчуждения церковных и монастырских земель12.
В конце 1917 - начале 1918 г. были конфискованы земли, лесные угодья и имущество значительной части располагавшихся на территории Мордовии, марийского края и Чувашии монастырей (женских Курилов-ского во имя Тихвинской иконы Божией Матери, Зиновского Рождество-Богородиц-кого, Царевококшайского Богородице-Сер-гиева, Цивильского Богородицкого Тихвинского, Чуфаровского Свято-Троицкого, мужских Козьмодемьянского Александро-Невского, Краснослободского Успенского, Кимляйского Александро-Невского, Чебоксарского Свято-Троицкого, Мироносицкой и Ново-Серафимовской мужских пустыней, Аштавай-Нырской мужской Свято-Никольской общины), а также ряда местных при-чтов. Более того, наблюдалось активное разграбление монастырского имущества крестьянами окрестных деревень. Причем, как отмечает А. В. Журавский, были особенности, связанные с «национально-конфессиональным фактором» в поволжском регионе: в местностях с преобладающим (или компактно проживающим) языческим или исламским населением православные монастыри подвергались разорению крестьянами близлежащих татарских или марийских деревень. Духовенство Казанской, Пензенской, Симбирской и Тамбовской губерний апеллировало к вышестоящим цер- ковным и светским властям. Губернские и уездные комиссары Временного правительства направляли соответствующие предписания волостным комитетам, однако общая ситуация никак не улучшалась. Местные власти практически расписывались в невозможности изменить положение дел, а нередко и сами оказывали активное давление на обители и причты [3; 6].
Поэтому к моменту принятия Декрета «Об отделении церкви от государства…» и целого ряда подзаконных актов монастыри уже утратили существенную часть недвижимого и движимого имущества. Декрет лишь продолжил эту практику. Более того, происходило расширение масштабов реквизиций и ограничений. Например, настоятель Козьмодемьянского Александро-Невского мужского монастыря неоднократно обращался в административный отдел местного исполкома с извещением о различных неправомерных конфискациях имущества: в январе 1918 г. крестьяне двух деревень самовольно увезли принадлежащие монастырю дубовые клепки, в феврале 1919 г. «приезжими товарищами» были отобраны 800 руб., в марте «приезжавшие в ночное время» сняли хворост с крыш монастырских сараев13.
Д. И. Ростиславов в специальном исследовании об имущественном положении монастырей упоминает о существовавших к моменту революционных преобразований в стране более чем 20 источниках дохода монастырей. В их числе даяния на поминовение усопших, кружечный, кошельковый, молебенный и просфорный сборы, средства от продажи свечей и лампадного масла, поступления от типографско-издательской деятельности (распространение печатной продукции и литографических картин духовно-нравственного содержания), а также проценты по банковским вкладам, прибыль от гостиниц, постоялых дворов и доходных домов, средства от сдаваемых в аренду торговых складов и т. д.14 Согласно инструкции Народного комиссариата юстиции РСФСР от 24 августа 1918 г. «О порядке проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви», были национализированы свечные заводы, гостиницы, рыбные промыслы и прочее «доходное имущество»15. По собранным в сентябре – октябре 1918 г. VIII отделом Наркомата юстиции РСФСР анкетным данным, крестьянству было передано 827 540 дес. монастырской земли, национализированы 84 монастырских завода, 704 гостиницы и подворья, 1 112 доходных домов, 436 молочных ферм, 602 скотных двора и 311 пасек16. Всего же после 1917 г. у монастырей, по подсчетам советского исследователя В. Ф. Зыбковца, было отобрано и национализировано чуть более 1 млн дес. земли17.
7 декабря 1918 г. СНК РСФСР был принят Декрет «О кладбищах и похоронах», согласно нормам которого были отменены обязательные оплата могильных мест и совершение похоронных религиозных об-рядов18. Все это стало личным делом родных и близких усопшего: готовы ли они вносить соответствующие суммы? Более того, со стороны партийно-советских органов развернулась массовая агитационная кампания за «внедрение в жизнь» кремации вместо традиционного православного «предания земле». Продвижение в массы обряда «красных похорон» даже стало идеей фикс. Согласно наблюдениям В. Паперного, в системе ранних большевистских ценностей с характерным для нее культом разрушения, огонь и сжигание имели особое, весьма специфическое место: «крематорий и сжигание – любимые темы», крематорий «постоянно противопоставляется кладбищу. Слово “кладбище” употребляется с негативным значением»19. Дело дошло до того, что еще в декабре 1917 г. пролеткультовский поэт В. Кириллов призвал: «Во имя нашего Завтра – сожжем Рафаэля»20.
Одним из аспектов экономического прессинга на обители стала организованная в 1920 г. кампания по вскрытию мощей. Одним из таковых действий в рассматриваемом регионе было вскрытие 17 декабря 1920 г. раки с останками преподобного Серафима Саровского. Решение принял проходивший в ноябре 1920 г. IX Темников-ский уездный съезд Советов, реализацией занималась особая комиссия во главе с начальником уездного отдела юстиции [11, с. 55–61]. Инициатором же был заведующий местным отделом народного образования З. Ф. Дорофеев. Позднее В. Пешонова, один из исследователей творчества этого поэта, утверждала, что тот по горячим следам вскрытия мощей Серафима Саровского создал «Антирелигиозный гимн»21. Здесь налицо явная подгонка фактов: стихотворение было написано в 1919 г., хотя его действительно можно назвать одним из наиболее одиозных и при этом имеющих касательное отношение к рассматриваемому вопросу: «Бога нет. Пророки – сказка, Мощи – выдумка церквей»22.
Мы согласны с мнением исследователей, что эта акция в целом преследовала цель «дискредитации православных священнослужителей», «разоблачения попо- вских обманов», демонстрации, «как наживались священники на истинной вере» и т. д. [7, с. 52] Но, на наш взгляд, мероприятия в этом направлении должны были иметь и финансово материализованный эффект через сокращение числа паломников и, соответственно, денежных поступлений. Организаторы антирелигиозных действий рассматривали святые мощи как средство извлечения монастырями и храмами «огромных» доходов: «культ мощей обязательно связан с материальной выгодой», «мощи святых и реликвии служили приманкой для паломников», «открытие святых останков сразу выводило монастыри из стесненного положения и обогащало их»23, – поэтому само по себе задуманное должно было привести к сокращению последних.
Все вышеописанное происходило на фоне постоянных попыток ликвидировать обители как таковые. Комплексы монастырских зданий привлекали пристальное внимание властных институций в силу крайней востребованности «квадратных метров» под нужды различных государственных учреждений. Неслучайно VIII (ликвидационный) отдел Наркомата юстиции РСФСР мотивировал выселение монашествующих «огромной потребностью» в помещениях для «трудовых классов» [8, с. 332]. Губернские комитеты РКП(б) циркулярно «рекомендовали» инициировать на местах обсуждение на различного рода собраниях вопроса о закрытии монастырей и использовании «высвобождающихся» площадей под размещение школ, больниц, клубов и прочих организаций просвещения, здравоохранения и социального призрения24. Поэтому, как правило, конфискация недвижимого имущества сопровождалась благовидными предлогами и основывалась на «ходатайствах» и «решениях» населения. Так, в январе 1918 г. Цивильский уездный земельный комитет удовлетворил просьбу крестьян д. Тюнзыр Цивильской волости о передаче им монастырского дома для устройства школы; в начале апреля 1918 г. земельным отделом Ядринского уездного Совета на месте ликвидированного Алек-сандринского женского монастыря было организовано образцовое советское хозяйство, специализировавшееся на животноводстве, и детский интернат на 150 чел.; в октябре 1918 г. Аликовский волостной комитет бедноты с использованием предназначавшегося для женского монастыря материалов приступил к строительству в с. Аликово народного дома25. 16 января 1919 г. постановлением исполкома Царе-вококшайского уезда были национализированы все постройки Мироносицкого монастыря, за исключением одного корпуса для размещения братии, настоятельского дома и собственно храма, но уже 1 апреля того же года настоятельский дом был отобран под народный дом [4, с. 38].
Как правило, в случае закрытия монастыря собственно церковные принадлежности передавались другой религиозной общине. Так, в январе 1926 г. православнорелигиозной группе г. Цивильска Управлением милиции было передано имущество бывшего Цивильского Тихвинского женского монастыря (облачения, лампады, иконы и т. п.), а также хранившиеся дореволюционные книжки Государственной сберегательной кассы и квитанции о страховании от огня в уже советском «Госстра-хе»26. При этом при наличии желающих из числа советско-партийных органов или государственных организаций последним могли быть выделены богослужебные предметы для конкретных практических нужд. Например, при закрытии в 1924 г. Чебоксарского Свято-Троицкого мужского монастыря Наркомат просвещения получил митру, кресты, ризы, епитрахиль, украше- ния с двух икон Богоматери для постановки пьесы «Последние дни Булгарского цар-ства»27. Тогда же этот монастырь «профинансировал» Чебоксарский городской совет мебелью, а Дом отдыха областной кассы социального страхования – столовыми на-борами28.
Говоря о национализации монастырской земли, нельзя пройти мимо следующего обстоятельства: могли ли монастыри наряду с другими категориями граждан владеть в новых условиях землей вообще? Как исключительный факт мы можем упомянуть о решении Саранского уездного земельного отдела, определившего в июне 1918 г. при разверстке земли и надельные площади в пользу местных Чуфаровского и Куриловского монастырей29. Однако в целом уставы «гражданских» сельскохозяйственных коммун запрещали членство в них служителей религиозных культов, но духовенству удавалось кооперироваться в трудовые артели при действующих монастырях. Поэтому даже часть монастырской земли осталась в ведении прежних хозяев, формально сменив статус на «коммунальную». Например, в 1919 г. монахинями была образована Шейн-Майданская трудовая коммуна Ардатовского уезда. Правда, число работниц в ней уменьшилось почти в 3 раза (28 против 85 насельниц в 1916 г.). В хозяйстве имелось 67 дес. земли, 7 дес. лугов и сада, несколько десятин леса, 4 рабочих лошади, 5 голов крупного рогатого скота и пасека. В 1926 г., несмотря на успехи, насельницы были выдворены из обители-коммуны, монастырь был уничтожен, а последние оставшиеся строения заняты школой крестьянской молодежи30. Отметим, что Шейн-Майданская трудовая коммуна оказалась не единственной, но одной из самых жизнеспособных. Для сравнения: в 1919 г. артель возникла и на территории Чуфаровского Свято-Троицкого женского монастыря Саранского уезда, однако это сельскохозяйственное товарищество было ликвидировано уже в июне 1923 г., когда монахини открыто отвергли «советскую» обновленческую церковь [1, с. 253; 2, с. 351]. Нельзя не упомянуть и о судьбе алатырских монастырей: в январе 1919 г. монахиням Алатырского Киево-Никольского (точнее – Киево-Николаевского) монастыря удалось создать коммуну «Труженица» [5, с. 24]. Фактически мы можем говорить, что как социальная страта монашество перестало существовать только к середине 1920-х гг.
Обсуждение и заключение
С первых дней установления советской власти началось ограничение прав и возможностей монастырей. Обители и их насельники, будучи обособленным звеном в структуре Русской православной церкви, играли особую роль в отношениях духовенства и паствы. Это послужило одной из причин повышенного внимания органов управления РСФСР к монастырям, выразившегося в ограничении их прав, секуляризации имущества и ликвидации обителей в целом. Последовательно формировалась законодательная система превращения монашествующих в так называемых лишенцев с соответствующим понижением их социального статуса. При этом активно осуществлялась политика сокращения экономического потенциала: была проведена экспроприация недвижимой (прежде всего – земли и прочих угодий) собственности, существенно ограничены доходные статьи, на регулярной основе шло изъятие «излишков» продовольствия и товаров первой необходимости. Экономический прессинг взаимоувязывался с идеологической борьбой. Показательной в плане последнего служит кампания по вскрытию мощей. Шел процесс закрытия монастырей с последующим использованием их комплексов под размещение образовательных, медицинских и других государственных учреждений. Фактически к середине 1920-х гг. монашество в Среднем Поволжье перестало существовать как социальная страта.