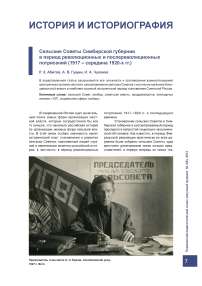Сельские советы Симбирской губернии в период революционных и послереволюционных потрясений (1917 - середина 1920-х гг.)
Автор: Абитов Рамиль Загитович, Гущин Александр Владимирович, Чуканов Иван Альбертович
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 3 (5), 2013 года.
Бесплатный доступ
В представленной статье раскрываются все сложности и противоречия взаимоотношений крестьянских органов местного самоуправления сельских Советов с местными органами большевистской власти в наиболее сложный исторический период становления Советской России.
Сельский совет, комбед, советская власть, продразверстка, помещичье имение, нэп, социальная сфера, выборы
Короткий адрес: https://sciup.org/14219295
IDR: 14219295
Текст научной статьи Сельские советы Симбирской губернии в период революционных и послереволюционных потрясений (1917 - середина 1920-х гг.)
В современной России идет мучительный поиск новых форм организации местной власти, которые сосредоточили бы все то лучшее, что накопила российская история по организации низовых форм сельской власти. В этой связи особую значимость имеет исторический опыт становления и развития сельских Советов, накопленный нашей страной в переломные моменты российской истории, в частности, в период революционных потрясений 1917–1920 гг. и последующего времени.
Становление сельских Советов в Симбирской губернии в рассматриваемый период проходило в непростой социально-экономической обстановке. Как известно, в период Февральской революции практически во всех деревнях были избраны сельские Советы, куда крестьяне делегировали своих лучших представителей, в первую очередь из числа тех,

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
Председатель сельсовета А. И. Ершов, Сенгилеевский уезд. 1927 г. Фото
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
кому они больше всего доверяли. В большинстве своем это были зажиточные крестьяне.
После победы Октябрьской революции большинство крестьян новую большевистскую власть приняли спокойно. Более того, многие крестьяне получили землю, разграбили соседние помещичьи имения и хозяйства наиболее удачливых крестьян-столыпинцев, которые в ходе перераспределения крестьянского индивидуального имущества пострадали не меньше, чем помещики. Они стали объектом насилия и грабежа не только со стороны крестьян-соседей, но и со стороны комбедов и местных властей. Их изгоняли из деревень, у них отбиралось и делилось имущество. В Симбирской губернии при попустительстве властей крестьяне-общинники зачастую устанавливали крестьянам-столыпинцам сроки, в течение которых последние должны были уехать с принадлежащих им земель. К весне 1918 г. основная их масса была изгнана из родных мест, а имущество конфисковано [1].
Сельские Советы хотя и состояли в основном из представителей зажиточных крестьян, сельской интеллигенции, демобилизованных солдат, поддержали в подавляющем большинстве приход к власти большевиков, так как видели в них силу, способную обуздать анархию и установить порядок в стране.
Положение дел изменилось уже в начале 1918 г., когда хозяйственно-экономическая деятельность большевиков привела к полной дезорганизации промышленности и торговли.
Члены сельсоветов в 1918–1922 гг. были превращены в заложников проводимой политики, на них обрушивались еще более жестокие, чем в 1919 г., кары за малейшее «послабление в работе». Если у крестьян находили спрятанные продукты, то конфисковали не только их, но и все вещи, представляющие ценность; их подвергали контрибуциям, экспроприировали имущество, а их самих и членов их семей в массовом количестве арестовывали и отправляли в концентрационные лагеря [2]. Члены сельских Советов, боясь расправы над собой и членами своих семей, были вынуждены участвовать в организации продразверстки.
Другой функцией, реализация которой местными властями была возложена на сельские Советы, являлась организация гужевой и трудовой повинности крестьян. Факты свидетельствуют, что народ массово стремился уклониться от повинности. В средневолжских губерниях на ее осуществление были брошены все имеющиеся воинские силы, в частности, в Симбирской губернии в распоряжение комиссариата труда первоначально были выделены 300 человек, затем это количество неуклонно увеличивалось и превысило 5000 человек [3].
Проведенное исследование показывает, что не всегда сельские Советы были послушными исполнителями всех распоряжений ор-

На приеме в сельском совете. 1920-е гг. Фото
ганов советской власти. Сельские советы, оппозиционные советской власти, создавались в восставших уездах и волостях в период «ча-панного восстания».
Большевистское руководство для подчинения деревни своему влиянию главный упор сделало на создание лояльных ей сельских Советов, формирование которых продолжалось в течение всего 1918 г. и завершилось только к его концу. Большевикам пришлось при помощи вооруженной силы распустить все старые и организовать на недемократической основе выборы новых сельсоветов, в состав которых были фактически назначены преданные коммунистическому режиму кадры.
По мнению А. Селиванова, процедуре выборов, с помощью которых формировались сельсоветы, предшествовала большая работа по составлению списков избирателей и лиц, лишенных избирательных прав (нежелательные не допускались к голосованию). Списки лиц, лишенных избирательного права, вывешивались на видных местах [4, с. 126].
Важным рычагом для создания удобных новой власти сельских Советов стали насаждаемые большевиками в 1918 – начале 1919 г. комитеты бедноты, члены которых после их роспуска в начале 1919 г. переместились в своем подавляющем большинстве в воссоздаваемые сельсоветы.
После перехода к новой экономической политике отношение органов советской вла- сти к сельским Советам несколько видоизменилось. Изучение деятельности сельсоветов в Симбирской (Ульяновской) губернии в период НЭПа, а также механизмов формирования сельсоветов даст возможность извлечь необходимые уроки и использовать их при проведении современных преобразований. В этой связи интересно рассмотреть механизмы формирования сельсоветов как представительских органов местного самоуправления. С самого начала сельсоветы своей деятельностью противопоставляли себя земельным обществам, были призваны подменить их. Так, например, по постановлению № 143 президиума Симбирского губернского исполнительного комитета от 14 сентября 1923 г. все вопросы сельского управления должны были решать только сельсоветы, а собрания земельных обществ должны были проводиться только для отчетов о проделанной работе [5]. По мнению Н. Л. Ро-галиной, лишение права избирать в сельсоветы, как и лишение права голоса в земельных обществах, ограничивало влияние кулачества на крестьянство и приводило к политической изоляции данной категории крестьянского населения [6].
Особое внимание со стороны местных государственных и партийных органов власти уделялось непосредственно организации самих выборов в сельсоветы. Основными целями, которые преследовали власти при организации выборов в сельсоветы, были:

Волостной совет.
1920-е гг. Фото
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
-
• расширение социальной опоры существующего режима в крестьянской среде;
-
• участие в формировании аппарата сельского управления;
-
• противостояние попыткам влиять на политическую жизнь в деревне со стороны зажиточной части крестьянского населения;
-
• формирование «своего» состава сельсоветов [7].
Стремление расширить социальную опору в крестьянской среде со стороны властей привело к увеличению числа коммунистов во всех деревенских Советах. Из бюллетеня № 19 Симбирского губернского отдела управления по результатам выборов сельсоветов и волостных исполнительных комитетов от 25 ноября 1923 г. видно, что в результате проведенных выборов в сельсоветы отмечается положительная динамика увеличения количества коммунистов в сельсоветах и волостных исполнительных комитетах: в ВИКах прежнего созыва коммунистов насчитывалось до 22 %, после выборов 1923 г. – 38 %; в прежних сельсоветах коммунистов было 1,4 %, в новом составе сельсоветов – 4,2 % [8, л. 46].
Одним из результатов работы местных государственных и партийных органов по подготовке выборов в сельсоветы стало снижение участия середняков и кулаков в сельсоветах, появление общей тенденции к «обеднячива-нию» сельсоветов. Бюллетень № 19 Симбирского губернского отдела управления по ре- зультатам выборов сельсоветов и волостных исполнительных комитетов показывает, что в результате проведенных выборов количество зажиточных крестьян в сельсоветах снизилось до 48 человек, количество середняков возросло до 3224 человек, а бедняков – до 4023 человек [8, л. 47].
В рамках политики, проводимой местными государственными и партийными органами в направлении организации и проведения выборов в сельсоветы, можно наблюдать следующее явление. С 1923 г. начинает проявляться неравномерность представления различных категорий крестьянского населения в сельсоветах (см. табл. 1, 2).
Из представленных таблиц видно, что категории крестьянского населения Симбирской деревни по результатам выборов 1923 г. в сельсоветах губернии представлены неравномерно. Количество представителей зажиточной категории крестьянского населения составляет 0,65 % от общего числа членов сельсоветов Симбирской губернии в 1923 г. В то же время численность зажиточного крестьянского населения в Симбирской губернии в это время достигала 12,2 % от общего числа крестьянского населения. Участие представителей бес-посевной и малопосевной категорий крестьянского населения в сельсоветах Симбирской губернии по итогам выборов 1923 г. составляет 55,14 %, в то время как численность беспосев-ного и малопосевного крестьянского населения

Активисты Ульяновской (Симбирской) губернии по ликвидации безграмотности. 1927 г. Фото
составляет 26,78 %. Деформация происходит в сторону «обеднячивания» и «осереднячива-ния» советов.
Лишение права голоса путем причисления к группе лиц, живущих на нетрудовой доход, как один из методов борьбы с зажиточными крестьянами в предвыборной кампании стало результатом противостояния властей попыткам зажиточной части крестьянского населения участвовать в формировании сельсоветов [9].
Как следует из доклада президиума губернского исполнительного комитета № 620 от 20 марта 1924 г., все эти меры были направлены на «обеспечение выборов в советы такого состава, который мог бы проводить в жизнь мероприятия советской власти».
Пытаясь расширить свою опору в деревне, советское правительство проводит с сентября 1924 по апрель 1925 г. в два этапа выборы в местные советы. Результаты первого этапа (сентябрь – декабрь 1924 г.) явились настолько неутешительными для большевистского руководства, что было решено провести второй этап выборов, объяснив его необходимость якобы многочисленными нарушениями советской демократии. Кроме того, в этих выборах участвовало крайне малое количество сельских избирателей. Так, среди симбирских крестьян на избирательные участки пришло лишь 29,3 % имеющих право голоса.
Местные газеты, выполняя социальный заказ властей, так писали о настроениях крестьян накануне нового тура выборов: «Среди крестьянства пробудились все те нездоровые настроения, которыми деревня вообще богата: тут и уравнительность, и «ревность» к ра-
Таблица 1
Распределение депутатских мандатов по партийной принадлежности и по категориям крестьянских хозяйств на выборах сельсоветов в 1923 г. [7]
|
Наименование уезда |
Выбрано по всему уезду членов сельсоветов |
Из них |
|||||
|
со о z О ^ |
-0 CO Q г i ra ° ^ co |
X -0 z (U Ф Ш |
X T о ro co |
Ф Ф О |
Ф Ш |
||
|
Алатырский |
1116 |
32 |
3 |
1081 |
10 |
415 |
691 |
|
Ардатовский |
1353 |
62 |
33 |
1258 |
5 |
580 |
768 |
|
Карсунский |
1404 |
44 |
13 |
1347 |
20 |
733 |
651 |
|
Сенгилеевский |
916 |
34 |
8 |
874 |
– |
371 |
545 |
|
Симбирский |
1000 |
44 |
13 |
943 |
13 |
503 |
484 |
|
Сызранский |
1506 |
20 |
1 |
1485 |
– |
622 |
884 |
|
Всего |
7295 |
236 |
71 |
6988 |
48 |
3224 |
4023 |
Таблица 2
Распределение крестьянского населения Симбирской (Ульяновской) губернии по основным посевным категориям по данным опроса 1924 г. [17]
|
№ п/п |
Категория крестьянского населения |
% |
|
1 |
Беспосевные хозяйства |
0,64 |
|
2 |
До 2 десятин |
26,14 |
|
3 |
От 2 до 4 десятин |
39,3 |
|
4 |
От 4 до 6 десятин |
21,72 |
|
5 |
От 6 до 8 десятин |
8,39 |
|
6 |
От 8 до 16 десятин |
3,7 |
|
7 |
От 16 и выше |
0,11 |
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
бочему, и собесовские требования к партии и государству и даже – антисемитизм» [10, л. 17]. Безусловно, такие или подобные им разговоры велись селянами, но возникали они не на пустом месте, а как реакция на непродуманную политику руководства страны, а значение их было явно преувеличено властью. Отсюда вполне объяснимое желание ангажированных журналистов опорочить крестьян и доказать нелегитимность прошедших выборов, результаты которых не устроили партийных чиновников. В октябре 1924 г. было принято решение о расширении прав местных Советов: ВЦИК утвердил положение об уездных и волостных съездах Советов и их исполкомах, а также положение о сельских Советах.
Вышеназванные документы давали право Советам производить денежные займы, предъявлять судебные иски, выступать ответчиками по суду и т. д. С расширением прав Советов началась подготовка ко второму этапу выборов. Здесь партийное руководство использовало весь имеющийся у него арсенал средств, чтобы добиться желаемых результатов. Тем не менее значительное число состоятельных крестьян было избрано в местные органы власти. Выборная кампания стала весомым предупреждением для большевиков, показывая, что их политика в деревне не находит массовой поддержки. Как считает М. Венер, «…несмотря на громкие слова, политика партии, проводимая с весны 1925 г., оказалась в основном отброшенной назад из-за принятия новой линии на индустриализацию» [11].
Справедливый вывод сделан Н. С. Симоновым о том, что «…интересам экономически целесообразной политики отвечало бы не административное назначение низких цен, означавшее льготную продажу промышленных изделий для отдельных категорий населения, а выравнивание их в соответствии с возросшим покупательским спросом, т. е. переход от скрытой инфляции к открытой» [12].
Несомненно, новая экономическая политика оживила хозяйственную жизнь деревни, позволила увеличить сельскохозяйственное производство, улучшить снабжение городов, поддержать промышленность, давала надежду на стабильность в обществе. Но одновременно она вызывала социальную и имущественную дифференциацию крестьянства, что приводило к росту напряженности между различными полюсами. НЭП был противоречив по сути. Дозволенные экономические свободы не сопровождались реформированием политической системы. Отсюда главное противоречие новой экономической политики – несовместимость рыночных отношений и коммунистической доктрины, что и предопределило ее демонтаж.
Результатом НЭПа стало увеличение количества зажиточных крестьянских хозяйств. Из постановления № 103 Губернского отдела управления от 23 октября 1924 г. видно, что при

Празднование 12 годовщины Октябрьской революции. Село Павловка, 1929 г. Фото
организации выборов в сельсоветы были поставлены новые задачи: изгнание враждебных элементов из советского аппарата управления, организация беднейшего крестьянства и красноармейцев против деревенской буржуазии. Это привело к появлению новой инструкции по проведению выборов в сельсоветы Президиума ЦИК СССР от 16 января 1925 г. [10, л. 83].
Сельсоветы не просто утрачивали свои властные функции, они постепенно превращались в орудие реализации «классовой линии» на селе. Так, например, до 60 % выплат по самообложению, которое к 1924–1925 гг. приобрело обязательный характер, сельсоветами возлагалось на зажиточную часть крестьянского населения [13].
Дальнейшая утрата сельсоветами своих представительских функций произошла в ходе фактического превращения сельсоветов из органов местного самоуправления в низовые единицы государственного аппарата по организации сбора налогов и составлению списков налогоплательщиков. Из приказа председателя Сенгилеевского уездного исполнительного комитета № 47 от 3 октября 1923 г. видно, что в это время сельсоветы уже принимают непосредственное участие в проведении кампании по сбору единого сельскохозяйственного налога [4, с. 44].
В 1923–1924 гг. сельсоветы, уже находясь в непосредственном подчинении органов исполнительной власти, в полной мере принимают участие не только в сборе единого сельскохозяйственного налога, но и во взыскании семенных ссуд, задолженностей по ссудам Сельхозбанка, распространении государственных займов. Из обязательного постановления президиума Карсунского уездного исполнительного комитета по сбору семенной ссуды от 10 сентября 1923 г. и постановления Симбирского губернского земельного управления № 7703 от 8 августа 1924 г. ясно, что собранная сельсоветами по указанию Ульяновской губернского земельного управления семенная ссуда распределяется по беднейшим крестьянским хозяйствам [14].
В первой половине 1920-х гг. сельсоветы в своей работе с крестьянством ориентированы прежде всего на беднейшие слои крестьянского населения. Неотъемлемым становится сотрудничество сельсоветов с крестьянскими организациями. Постановление особой секции Комитета содействия сельскому хозяйству при ВЦИК от 18 декабря 1923 г. показывает, что семенные ссуды распространяются на льготных условиях среди беднейшего крестьянского населения по спискам, составляемым сельсоветами при участии местных комитетов крестьянских обществ взаимопомощи.
Во второй половине 1920-х гг. сельсоветы начинают осуществлять контроль над различными крестьянскими организациями. Так, постановление № 167/14 Карсунско-го районного исполнительного комитета от 23 июля 1928 г. предписывает сельсоветам обратить особое внимание на необходимость установления бóльшей связи с крестьянскими комитетами общественной взаимопомощи и уделения бóльшего внимания руководству ими [15, л. 23].
Наделение сельсоветов контролирующими функциями по отношению к крестьянским организациям проводилось с целью вовлечения сельсоветов в осуществление «классовой линии» в политике местных партийных и государственных органов. Одним из направлений этой политики было распределение строительного и топливного леса из лесов государственного фонда и лесов местного значения среди крестьян-лесопользователей. Так, из протокола № 37 заседания большого президиума Ульяновского губернского исполнительного комитета от 13 сентября 1927 г. следует, что распределение леса из лесов государственного фонда и лесов местного значения, проводимое крестьянскими комитетами общественной взаимопомощи, утверждалось сельсоветами. Вместе с тем отпуск леса с рассрочкой платежа, на льготных условиях, утверждаемый сельсоветами на основании приказа № 24 Губернского земельного управления от 7 июля 1927 г., проводился в первую очередь среди коммун, колхозов, совхозов, артелей, ведущих коллективную форму хозяйствования [16, л. 79].
Следует обозначить набор функций, которым стали наделяться сельсоветы. Из обязательного постановления № 37 президиума Ульяновского губернского исполнительного комитета от 17 мая 1927 г. наглядно видно, что составление поселенных списков плательщиков единого сельскохозяйственного налога, учет источников облагаемого дохода и едоков в каждом отдельном хозяйстве, исчисление оклада налога, прием платежей налога, составление списка недоимщиков по селению, предоставление льгот по сельскохозяйственному налогу, выдача заключений по ходатайствам и жалобам налогоплательщиков, составление списков избирателей, взыскивание недоимок по общегражданским налогам, трудгужналогу, единому сельскохозяйственному налогу, распределение самообложения, размещение среди крестьянского населения займа индустриализации возлагались на сельсоветы. За невыполнение названных выше обязанностей председатели сельсоветов привлекались к уголовной ответственности. Расширение списка обязанностей сельсоветов приводило к превращению последних из органов местного самоуправле-
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
ния в механизм реализации «классовой линии» на селе [16, л. 79].
Деформация классового состава сельсоветов в сторону «обеднячивания», с одной стороны, и расширение списка обязанностей сельсоветов – с другой, приводит к изменениям в экономической сфере и в сфере налогообложения на селе. Из отчета финансового отдела Ульяновской губернского исполнительного комитета видно, что к 1927 г. зажиточные крестьянские хозяйства, которые составляли 11 % крестьянского населения губернии, уплачивали более 60 % сельскохозяйственного налога [16, л. 27].
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать несколько общих выводов:
-
• во-первых, нэповские экономические преобразования не означали модернизации политической сферы. Выборы в представительские органы местного самоуправления на селе проводились на неравных, недемократических началах;
-
• во-вторых, определяющую роль в отношении властей к различным категориям крестьянского населения играл классовый подход;
-
• в-третьих, перед сельсоветами ставилась задача не эффективного самоуправления на селе, а усиления изоляции зажиточной категории крестьянского населения;
-
• в-четвертых, проводимая политика привела к полной утрате сельсоветами своей выборной сути.
Как мы видим, общая линия социально-политической деятельности властей в годы НЭПа была направлена на свертывание не успевших начать функционирование демократических институтов парламентаризма.
Осуждая наиболее кричащие нарушения законности представителями советской власти, многие большевистские руководители все равно считали деревню опасной terra incognita, «средой, кишащей кулацкими элементами, эсерами, попами, бывшими помещиками, которых еще не успели “убрать”» (по образному выражению руководителя ГПУ Тульской губернии).
В январе 1927 г. ОГПУ получило приказ усилить работу по учету «социально опасных и антисоветских элементов» на селе. За год число учтенных увеличилось с 30 000 до примерно 72 000. В сентябре 1927 г. ОГПУ начало многочисленные кампании по аресту кулаков и других «социально опасных и антисоветских элементов» сразу во многих областях. Впоследствии эти операции будут рассматриваться как подготовительные к большим
«чисткам» периода «борьбы с кулачеством» зимой 1929–1930 гг. Хотя к концу 1920-х гг. сельское хозяйство заметно поднялось после катастрофы 1918–1922 гг., «крестьянский враг» все равно был слабее, а государство сильнее. Об этом свидетельствуют, например, подробные информационные сводки о том, что происходило в деревне, а также перепись «социально опасных элементов», позволившая ОГПУ успешно провести первые акции по раскулачиванию, искоренению «бандитизма», разоружению крестьян, увеличению процента военнообязанных среди них. Как свидетельствуют письма большевиков и стенограммы дискуссий в высших эшелонах партийной власти, сторонники Сталина, как и его противники – Бухарин, Рыков и Каменев, прекрасно знали в 1928 г., чего может стоить новое наступление против крестьянства. «Вы получите крестьянскую войну как в 1918–1919 годах», – предупреждал Бухарин. Сталин к этому был готов: он знал, что на этот раз власть выйдет победительницей, какой бы ни была цена победы.
-
1. Государственный архив Самарской области. Ф. 119. Оп. 2. Д. 10. Л. 21–22.
-
2. ГАУО. Ф. 2720. Оп. 1. Д. 11. Л. 22, 72.
-
3. ГАУО. Ф. 2720. Оп. 1. Д. 127. Л. 400.
-
4. Селиванов А. М. Социально-политическое развитие Российской деревни в первые годы НЭПа : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Ярославль, 1994.
-
5. ГАУО. Ф. 200. Оп. 1. Д. 24. Л. 2.
-
6. Рогалина Н. Л. Класс кулачества накануне массовой коллективизации (1926–1929 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. М., 1972. С. 27.
-
7. ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 1351. Л. 23.
-
8. ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 682.
-
9. Жиркова Т. М. Деформация аграрной сферы в предколхозное время (1927–1929 гг.) : авто-реф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Коломна, 2002. С. 34.
-
10. ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 23.
-
11. Венер М. Лицом к деревне: Советская власть и крестьянский вопрос (1924–1925 гг.) // Отечественная история. 1993. № 5. С. 103.
-
12. Симонов Н. С. Советская финансовая политика в условиях НЭПа (1921–1927) // История СССР. 1990. № 5. С. 54.
-
13. ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 682. Л. 96.
-
14. ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 1048. Л. 28.
-
15. ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 47.
-
16. ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 1055.
-
17. ГАУО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 765. Л. 47.

Simbirsk Province Village Councilsduring Revolutionary and Post-Revolutionary Periods (1917 – mid 1920s)
R. Z. Abitov, A. V. Gushchin, I. A. Chukanov
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013
Список литературы Сельские советы Симбирской губернии в период революционных и послереволюционных потрясений (1917 - середина 1920-х гг.)
- Государственный архив Самарской области. Ф. 119. Оп. 2. Д. 10. Л. 21-22.
- ГАУО. Ф. 2720. Оп. 1. Д. 11. Л. 22, 72.
- ГАУО. Ф. 2720. Оп. 1. Д. 127. Л. 400.
- Селиванов А. М. Социально-политическое развитие Российской деревни в первые годы НЭПа: автореф. дис.. канд. ист. наук: 07.00.02. Ярославль, 1994.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 1. Д. 24. Л. 2.
- Рогалина Н.Л. Класс кулачества накануне массовой коллективизации (1926-1929 гг.): автореф. дис.. канд. ист. наук: 07.00.02. М., 1972. С. 27.
- ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 1351. Л. 23.
- ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 682.
- Жиркова Т. М. Деформация аграрной сферы в предколхозное время (1927-1929 гг.): автореф. дис.. канд. ист. наук: 07.00.02. Коломна, 2002. С. 34.
- ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 23.
- Венер М. Лицом к деревне: Советская власть и крестьянский вопрос (1924-1925 гг.)//Отечественная история. 1993. № 5. С. 103.
- Симонов Н.С. Советская финансовая политика в условиях НЭПа (1921-1927)//История СССР 1990. № 5. С. 54.
- ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 682. Л. 96.
- ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 1048. Л. 28.
- ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 47.
- ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 1055.
- ГАУО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 765. Л. 47.