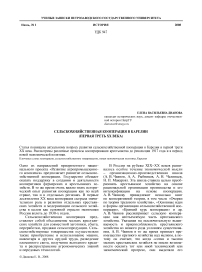Сельскохозяйственная кооперация в Карелии (первая треть XX века)
Автор: Дианова Елена Васильевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (91), 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальному вопросу развития сельскохозяйственной кооперации в Карелии в первой трети XX века. Рассмотрены различные процессы кооперирования крестьянства до революции 1917 года и в период новой экономической политики.
Кооперация, сельскохозяйственное товарищество, новая экономическая политика, карелия
Короткий адрес: https://sciup.org/14749388
IDR: 14749388 | УДК: 947
Текст научной статьи Сельскохозяйственная кооперация в Карелии (первая треть XX века)
Одно из направлений приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» предполагает развитие сельскохозяйственной кооперации. Государство обещает оказать поддержку в создании и деятельности кооперативов фермерских и крестьянских хозяйств. В то же время очень важно знать исторический опыт развития кооперации как по всей стране, так и в отдельных регионах. В первые десятилетия ХХ века кооперация сыграла значительную роль в развитии отдельных крестьянских хозяйств и модернизации сельского хозяйства в целом как основной отрасли экономики России вплоть до 1930-х годов.
Сельскохозяйственная кооперация представляет собой объединение мелких крестьянских хозяйств для совместной заготовки, сбыта, переработки, продажи сельхозпродукции. Сельскохозяйственные товарищества осуществляли также приобретение и использование машин, инвентаря и других орудий труда, разведение племенного скота, получение выгодного кредита и распространение агрономических знаний и передовых технологий.
В Ро ссии на рубеже XIX–ХХ веков развивалось особое течение экономической мысли – организационно-производственная школа (А. В. Чаянов, А. А. Рыбников, А. Н. Челинцев, Н. П. Макаров). Эта школа ставила целью преобразовать крестьянское хозяйство на основе рациональной организации производства и его интенсификации на основе кооперации. А. В. Чаянову принадлежит несколько книг по кооперативной теории, в том числе «Очерки по теории трудового хозяйства», «Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации», «Краткий курс кооперации» и др. А. В. Чаянов рассматривает сельскую кооперацию как неотъемлемую часть крестьянского хозяйства. Указывая на исключительную выживаемость и приспособляемость крестьянского хозяйства ко всякого рода условиям существования, А. В. Чаянов в то же время признает преимущество крупного хозяйства над мелким, а потому он считает, что когда «сотни и тысячи мелких крестьянских хозяйств не имели возможности осилить тот или иной технический или экономический прогресс, они выделяли его
из индивидуального хозяйства и организовывали совместными усилиями на стороне крупное коллективное предприятие кооперативного типа». В крестьянской кооперации А. В. Чаянов видел прежде всего «весьма совершенный организованный вариант крестьянского хозяйства, позволяющий мелкому трудовому хозяйству, не разрушая своей индивидуальности», выделять и организовывать в кооперативное предприятие те отрасли, в которых это укрупнение давало заметный положительный эффект [1].
В России сельскохозяйственная кооперация возникла в конце XIX века, а в начале ХХ века была создана настоящая система сельскохозяйственной кооперации, которая охватывала миллионы крестьянских хозяйств. В начале 1917 года система сельскохозяйственной кооперации объединяла 13,5 млн. крестьянских хозяйств и насчитывала 27,5 тысяч первичных кооперативов. В конце 1917 года сельскохозяйственная кооперация насчитывала 16200 кредитных и ссудо-сберегательных товариществ (10,5 млн. членов), 6132 сельскохозяйственных обществ (380 тысяч членов), 2400 сельскохозяйственных товариществ (280 тысяч членов) и 3000 маслодельных (молочных) артелей (450 тысяч членов). Крестьянская кооперация обслуживала 94 млн. человек, или 82,5 % сельского населения. Большинство кооперативов было смешанного типа, т. е. они занимались не только заготовкой, сбытом и переработкой сельхозпродукции, но и предоставляли дешевый кредит [2].
В 1917 году в стране действовало 500 различных союзов сельскохозяйственной кооперации. В 1918 году были образованы всероссийские центры сельскохозяйственной кооперации: союз «Кооперативное зерно», союз «Кооперативное яйцо», Льноцентр, Пенькосоюз, Плодовощ, Со-юзкартофель, Союз сибирских маслодельных артелей и др. Всероссийский закупочный союз сельскохозяйственной кооперации (Сельскосоюз) производил закупку сельскохозяйственных машин и инвентаря, удобрений, стройматериалов и т. п., осуществлял сбыт сельхозпродукции. Финансовым центром кооперации был Московский Народный Банк. Идейным центром и главным рабочим органом Сельскосоюза был Совет объединенной сельскохозяйственной кооперации (Сельскосовет). В него входили А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьев, Н. П. Макаров, С. Л. Маслов, Н. П. Гибнер, С. В. Бернштейн-Коган и др.
На Европейском Севере первые сельскохозяйственные товарищества (маслодельные и сыродельные артели) были созданы в 1890-е годы в Вологодской губернии. Дальнейшему росту сельскохозяйственной кооперации в крае способствовало созданное в 1908 году Центральное Вологодское общество сельского хозяйства, которое занималось заготовкой, хранением и сбытом сельхозпродукции, снабжением необходимыми орудиями труда и кредитованием кооперированных крестьянских хозяйств. Росту кооперативного движения способствовало проведение аграрной реформы П. А. Столыпина.
В 1918 году в Архангельской и Вологодской губерниях насчитывалось 250 сельскохозяйственных кооперативов. Подавляющее большинство этих кооперативов объединялось Вологодским союзом кооперативов северного края, или Севе-росоюзом. На складах Северосоюза имелись сельскохозяйственные орудия труда, машины, мелкий ручной инвентарь нескольких десятков наименований. С 1912 года Северосоюз ежегодно продавал крестьянским хозяйствам более 90 веялок, до 120 маслобоек, около 2,3 тыс. сепараторов, 2,4 тыс. плугов [3].
В Олонецкой губернии в период проведения реформы П. А. Столыпина также стали создаваться сельскохозяйственные общества на кооперативных началах. Многие из них были организованы при помощи земств. Эти общества занимались пропагандой передовых методов агротехники, прокатом инвентаря, разведением породистых животных. По примеру соседних северных губерний были созданы и маслодельные артели. В 1912 году в старинном селе Шуньга был основан первый в Карелии маслодельный кооператив «Производитель», в который вступило 26 хозяйств, имевших стадо в 80 коров.
Проведение аграрной реформы, развитие кооперации в крае и другие факторы способствовали некоторому оживлению сельского хозяйства Карелии. В 1913 году численность лошадей в деревнях и селах составила 110,2 % (43,3 тыс. голов), а крупного рогатого скота 109,5 % (96,7 тыс. голов) к уровню 1900 года. Крестьяне все больше проявляли интерес к маслоделию с использованием сепараторов. Так, за период с 1905 по 1912 год только по трем уездам Олонецкой губернии – Петрозаводскому, Олонецкому и Повенецкому – количество сепараторов в крестьянских хозяйствах увеличилось с 7 до 174. В это время появились земские агрономическая и ветеринарная службы. Через кооперативные товарищества земские агрономы и ветеринары старались распространять необходимые знания по травосеянию, мелиорации, маслоделию, животноводству, огородничеству, садоводству и пчеловодству, а также познакомить с новыми машинами и орудиями труда [4].
В хозяйствах некоторых крестьян, вышедших на хутора и отруба, стали применяться многопольные севообороты с травосеянием. Однако эта сторона модернизации сельского хозяйства осуществлялась медленно: к 1917 году сеянными травами засевалось 154 гектара, или 0,3 % посевной площади края. Карельские крестьяне по старинке сушили сено из дикорастущих трав. А на севере Карелии, как писал М. М. Пришвин, для зимнего корма скота заготовляли даже осоку и березовый лист. Из-за разбросанных по всем пожням камней траву косили косой-горбушей, т. е. большим серпом, все время согнувшись, обвязав голову плат- ком от комаров. Повсеместно на полях и лугах Карелии крестьяне делали ровницы из камней, собранных во время полевых работ [5].
Благодаря развитию кооперативного движения в Олонецкой губернии в 1917 году были зарегистрированы 45 сельскохозяйственных товариществ: в Вытегорском уезде – 13, в Каргопольском – 9, в Олонецком и Повенецком – по 6, в Петрозаводском – 5, в Пудожском – 4, в Ло-дейнопольском уезде – 2. Все сельскохозяйственные товарищества входили в Олонецкий губернский кредитно-производительный союз [6].
В условиях гражданской войны и политики «военного коммунизма» происходит огосударствление всех видов кооперации. В 1918–1919 годах сельскохозяйственная кооперация выполняла задания Советской власти по заготовкам ненормированной сельхозпродукции, в том числе хлеба. В 1919 году с введением продразверстки заготовкой и распределением сельхозпродуктов стала заниматься главным образом потребительская кооперация, которая была подчинена Народному комиссариату продовольствия. Работники сельскохозяйственной кооперации выступали с резкой критикой многих мероприятий Советской власти, в том числе таких, как: установление продовольственной диктатуры и твердых цен на сельхозпродукцию, запрет частной торговли, продразверстка и т. п.
Советская власть решила подчинить сельскохозяйственную кооперацию путем ее объединения с потребкооперацией, ставшей частью аппарата Наркомпрода. Согласно декрету СНК от 27 января 1920 года «Об объединении всех видов кооперативных организаций» произошло слияние кредитных и сельскохозяйственных товариществ с потребительскими обществами. Все центры сельскохозяйственной кооперации были упразднены, вместо них с 15 июня 1920 года была открыта Центральная сельскосекция Центросоюза. В результате такой реорганизации сельскохозяйственной кооперации произошло сокращение низовой сети. Так, в начале 1920 года в стране насчитывалось 17,5 тысяч кооперативов, в декабре 1920 года – около 3 тысяч товариществ по закупке, сбыту и переработке продуктов, 6 тысяч сельскохозяйственных обществ, около 4 тысяч молочных кооперативов. Большинство сельскохозяйственных кооперативов не имело условий для эффективной работы.
Перестройка сельскохозяйственной кооперации на основе декрета от 27 января 1920 года совпала с периодом, когда хозяйственная разруха достигла наивысшего уровня, продразверстка распространилась на все основные продукты сельского хозяйства, а процесс свертывания товарно-денежных отношений достиг наивысшей точки. «Это был черный в летописях русской кооперации год. Все ее имущество погибло или почти погибло. Кооперативная жизнь замерла. И в экономической жизни России наступила такая зловещая тишина, что она заставила комму- нистическую фракцию изменить свою политику по отношению к кооперации», – так оценивали последствия декрета от 27 января 1920 года оказавшиеся в эмиграции русские экономисты [7].
Переходом к новой экономической политике 16 августа 1921 года был декрет СНК «О сельскохозяйственной кооперации». Сразу после опубликования этого закона 18–19 августа 1921 года был созван учредительный съезд Всероссийского союза сельскохозяйственных кооперативов, на котором рассматривался вопрос о восстановлении сельскохозяйственной кооперации. Один из выступавших на съезде кооператоров говорил: «В свое время нищая страна со страшным усилием создавала кооперацию на почве взаимного доверия и бесплатного труда. База сельскохозяйственной кооперации – взаимное доверие, но сейчас его нет. Задача центра – создать такие правовые условия, чтобы крестьянин почувствовал себя полным хозяином, распорядителем своего имущества». На съезде присутствовали представители 49 союзов, объединявших около 600 первичных кооперативов. После съезда началось восстановление системы сельскохозяйственной кооперации: товарищество – губернский союз – Всероссийский союз сельскохозяйственных кооперативов (Сельскосоюз). На 1 июля 1922 года в России (без Украины) насчитывалось уже 300 кооперативных союзов и около 1700 товариществ, объединявших 2,3 млн. крестьянских хозяйств [8].
23 августа 1921 года газета «Правда» напечатала передовую статью «К съезду сельскохозяйственной кооперации». В ней говорилось о роли сельскохозяйственной кооперации в восстановлении народного хозяйства: «В современных экономических условиях Советской России сельскохозяйственная кооперация представляет из себя лучшее средство воздействия на крестьянское хозяйство. Через кооперативные организации, которые должны охватить миллионы крестьянских хозяйств, пролетарское государство сможет влиять на сельскохозяйственное производство. Для широких крестьянских масс сельскохозяйственная кооперация представляет лучшую форму участия в создании единого социалистического хозяйства. Сельскохозяйственная кооперация – это начало того моста, который приведет крестьянство к социализму. В Советской России при всемерном поощрении со стороны пролетарской власти сельскохозяйственная кооперация может достигнуть небывалого расцвета» [9].
Начало работы сельскохозяйственной кооперации в 1921–1922 гг. было обусловлено хозяйственной разрухой, последствиями политики «военного коммунизма» и гражданской войны. Падение сельскохозяйственного производства прежде всего проявилось в сокращении посевных площадей. В 1921 году засевалось только 56 % полей от уровня 1913 года, 44 % полей находились в запустении. НКЗ разработал целую систе- му мер борьбы с запустением полей, но только переход от продразверстки к продналогу и разрешение свободной торговли способствовали преодолению хозяйственной разрухи.
Восстановление сельскохозяйственной кооперации зависело от состояния крестьянского хозяйства. В 1921 году крестьянство испытывало острый недостаток сельскохозяйственных орудий труда и инвентаря, вызванный тем, что в годы войны все предприятия перешли на выпуск военного снаряжения. Сокращение на ⅓ поголовья скота привело к нехватке органических удобрений и падению плодородия земли. Уменьшилось количество рабочего скота, сократились посевы технических культур. Разруха на транспорте сдерживала товарообмен.
В Карелии сельское хозяйство после окончания гражданской войны и интервенции находилось «в страшном запустении и нищете». По сравнению с 1913 годом посевные площади сократились на 30–40 %, упала урожайность, почти наполовину уменьшилось поголовье скота, не хватало сельхозорудий. Как выразился секретарь Олонецкого губкома РКП(б) Я. Ф. Игошкин, в крае «положение сельского хозяйства близко к катастрофе» [10].
В таких тяжелых условиях некоторые кооператоры задавались вопросом: «Возможно ли при таких условиях вновь строить сельскохозяйственную кооперацию?» Ответ был утвердительным: «Да! Основа кооперации – крестьянское хозяйство – подорвано, но не убито, разрушено, но осталось живым и жизнеспособным. Крестьянское хозяйство – организм удивительно гибкий и приспособляющийся. А раз крестьянское хозяйство живо, то есть и почва для сельскохозяйственной кооперации». Очень острой была нехватка средств для работы кооперации. До 1921 года кооперация была огосударствлена, ее имущество было национализировано, при нэпе она должна была начинать работу практически с нуля. Поэтому кооперативные работники решили, что в целях экономии средств «надо интегрировать, объединять ряд отраслей сельского хозяйства в одном кооперативе, а не разъединять их по нескольким специальным, отсюда вытекает основной лозунг местного строительства: интегральное товарищество – интегральный союз» [11].
В Карелии в октябре 1921 года был создан Олонецко-Карельский Краевой союз сельскохозяйственных и производительно-промысловых кооперативов (Крайсоюз). В октябре 1921 года состоялось собрание инициативной группы и представителей семи первичных кооперативов Петрозаводска в составе 13 человек. Инициативная группа выбрала организационное бюро, которое написало обращение к первичным кооперативам о создании краевого союза сельскохозяйственной кооперации. 20 октября 1921 года состоялось первое собрание уполномоченных, которое определило основные задачи нового кооперативного союза Карелии.
Задачи Крайсоюза состояли в том, чтобы оказывать помощь в создании, укреплении первичных кооперативов, осуществлять снабжение населения необходимыми орудиями труда, рабочим скотом, семенами, предметами первой необходимости. Крайсоюз брал на себя обязательства заниматься заготовкой, хранением, переработкой и сбытом на комиссионных началах продукции сельского хозяйства и кустарных промыслов. Работники Крайсоюза считали необходимым содействовать организации на местах различных предприятий на кооперативных началах (маслозаводы, прокатные и случные пункты) и проведению агротехнических мероприятий, способствующих улучшению сельского хозяйства, а также развивать лесные и кустарные промыслы, вести культурно-просветительскую работу. На Крайсоюз были возложены задачи по восстановлению сельского хозяйства республики [12].
Основным районом деятельности Крайсою-за была территория Олонецкой губернии и Карельской Трудовой Коммуны. Крайсоюз представлял собой кооперативную организацию универсального (интегрального) типа, так как не только объединял сельскохозяйственные товарищества и кустарно-промысловые артели, но и занимался торговлей потребительскими товарами. По договорам с госорганами Край-союз занимался снабжением пограничных волостей хлебом, обеспечением больниц и детских домов продуктами питания. Крайсоюз был шефом опытно-показательного учреждения г. Петрозаводска – Центрального детского сада № 1 имени III Интернационала.
На первом собрании уполномоченных были избраны руководящие органы Крайсоюза: правление и ревизионная комиссия. В правление Крайсоюза вошли М. С. Стратонников, А. П. Тихомиров, И. Л. Наймарк, М. К. Абакумов, А. И. Татаринов и кандидат Г. И. Прохоров. Ревизионная комиссия состояла из таких работников, как: А. Ф. Кожевников, И. М. Росляков, И. М. Никитин и кандидат Л. Г. Попов. Устав Олонецко-Карельского Краевого союза сельскохозяйственных и промыслово-производительных кооперативов был зарегистрирован в ВСНХ РСФСР 6 марта 1922 года [13].
Руководство республики с самого начала с недоверием отнеслось к этому кооперативному союзу. Для поднятия сельского хозяйства карельские коммунисты хотели использовать прежде всего государственный аппарат. Секретарь Олонецкого губкома РКП(б) Я. Ф. Игошкин говорил об «особом праве советского государства указывать крестьянину, какие семена и в каком количестве он должен засевать» [14].
Не случайно в 1921 году для регулирования отношений между городом и деревней был выбран товарообмен как способ заинтересовать крестьян сдавать продукты и сырье госза-готовителям в обмен на промышленные товары и тем самым начать во сстанавливать разрушенное войной сельское хозяйство. Товарообменные фонды формировались исходя из запросов деревни и реальных возможностей городской промышленности. На предприятиях рабочие Карелии принимали решения «делать плуги, косы, топоры, серпы для обмена с крестьянами на хлеб». Товарообменный фонд был крайне скудным, так как в начале нэпа в Карелии из 23 предприятий, имевшихся в крае накануне первой мировой войны, действовали только Онежский (бывший Александровский) завод и несколько мелких предприятий кустарного типа. В результате на два уезда Карелии пришлось выделить 41 косу-литовку, 143 косы-горбуши, 25 сепараторов, более 2,5 тыс. серпов и проч., из них крестьянам были реализованы 56 граблей, 25 серпов, 19 кос, 24 подковы и др. [15].
Товарообмен показал острую нехватку машин и сельскохозяйственных орудий труда в крестьянских хозяйствах Карелии. Простой инвентарь делался почти в каждой деревне, но для поднятия сельского хозяйства и его дальнейшей модернизации нужна была техника фабричного производства. Для поставки сельскохозяйственных орудий из центра на периферию необходимо было заключать договоры с центральными кооперативными снабженческими союзами.
В 1922 году Крайсоюз вступил во Всероссийский союз сельскохозяйственной кооперации (Сельскосоюз), Союз сельскохозяйственной кооперации Северо-Западного района (Трудсоюз), Всероссийский лесной союз (Всеколес), Союз союзов промысловой и производительнотрудовой кооперации Северного района (Севе-рокустарь или бывший Артельтрудсоюз). Труд-союз выдал Крайсоюзу кредит размером 100 млн. руб (по курсу декабря 1921 года), что в переводе на хлеб означало всего 100 пудов. Ар-тельтрудсоюз также выдал кредит размером 20 млн руб., или 20 пудов хлеба. Эти кооперативные организации поставляли Крайсоюзу технику, орудия труда, инвентарь. Через Сельскосоюз и Трудсоюз Крайсоюз получал образцы сельскохозяйственных машин и других орудий труда. С 1925 года Сельскосоюз стал принимать заявки на трактора и давать направления в Московскую тракторную школу при Сельскосоюзе.
С Олонецко-Карельским Краевым союзом поддерживали отношения союзы кустарнопромысловой кооперации, например Боровичский союз производительно-трудовых артелей кустарей и ремесленников, Вытегорский промысловый союз, Каргопольский кустарнопромысловый союз и др. Они предлагали различный сельскохозяйственный инвентарь и машины местного производства. Например, в 1923 году с завода «Северный Землероб» из Старой Руссы в Петрозаводск был отправлен образец одноконного плуга.
Снабжение низовых кооперативных товариществ техникой и различными орудиями тру- да осуществлялось Крайсоюзом через отдел сельскохозяйственных машин Сельскосоюза и Трудсоюза. Они сообщали Крайсоюзу сведения о наличии техники на своих складах. Предлагались почвообрабатывающие орудия (плуги, бороны), уборочные машины, сенокосилки, зерноочистительные машины, сортировки, веялки, машины по подготовке кормов и разнообразный мелкий инвентарь (лопаты, вилы, косы, серпы и др.). Машины и орудия были как отечественного, так и заграничного производства, специально предназначенные для природноклиматических условий Северо-Запада. Например, Трудсоюз предлагал австрийские косы, английские вилы и грабли, американские веялки, сортировки и молотилки, сепараторы из Финляндии и Швеции. При этом сообщалось, что цены на машины стали выше довоенных на 10–12 %. Продажа машин и орудий труда осуществлялась на таких условиях: 25–30 % стоимости выплачивалось сразу наличными деньгами по твердому счету, остальная сумма – в кредит на срок от 6 месяцев до 1,5 лет и под векселя, гарантированные Сельхозбанком.
Снабженческие операции кооперативных союзов находились под контролем местных органов власти. Так, Наркомзем Карелии постоянно требовал предоставления отчетности о наличии на складах Крайсоюза орудий труда, инвентаря. Также работники Наркомзема проводили обследование сельскохозяйственных машин, поступавших по заказам товариществ. На складах Крайсоюза в 1923/1924 гг. находились завезенные из-за границы орудия сельскохозяйственного производства более 75 наименований, в том числе: борона «Зиг-заг», сеялка «Планет», веялка «Феникс», плуг «Лангарт», сепаратор «Балтик», а также сельхозинвентарь отечественного производства (серпы, косы-горбуши, косы-литовки). Однако реализация орудий труда крестьянским хозяйствам через кооперативные товарищества проходила медленно, так как соотношение цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию складывалось не в пользу крестьянина. Отсутствие государственного регулирования цен в начале нэпа привело к тому, что тресты и синдикаты взвинтили цены на промышленную продукцию.
В 1923 году расхождение цен усиливалось. Если на 1 января 1923 года индексы цен на сельхозпродукты относились к индексам цен на промтовары как 0,82 : 1,24, то на 1 апреля 1923 года это соотношение было 0,72 : 1,43, на 1 октября 1923 года – 0,54 : 1,72. По сравнению с довоенным временем сельхозпродукция стала стоить в три раза дешевле промышленной, в то время как цены на промышленные товары значительно возросли. Основные виды промышленных товаров превышали довоенный уровень в 1,2–2,5 раза [16].
По данным ЦСУ, покупка промышленных товаров в 1921/22 г. обходилась в среднем на душу сельского населения примерно 3,69 пуда ржи. В июне 1923 года за тот же набор товаров крестьянин должен был отдать 14,76 пуда ржи. Если в 1913 году крестьянин мог за 1 пуд ржи приобрести 5,7 аршин ситца, то в 1923 году только 1,5 аршина, т. е. почти в 4 раза меньше. Примерно втрое меньше крестьянин мог приобрести сахара. Плуг, который в 1913 г. обходился в 6 пудов пшеницы, в 1923 году требовал расходов в 4 раза больше, сенокосилка подскочила в цене со 125 пудов до 544. Фактически на этом расхождении цен деревня теряла 500 млн. руб., т. е. половину своего платежеспособного спроса. Емкость деревенского рынка сократилась. Сужение крестьянского рынка привело к кризису сбыта промышленных товаров.
Сужение крестьянского рынка и кризис сбыта были связаны с тем, что сельское хозяйство еще не было восставлено в полном объеме к уровню 1913 года. В то же время существовала большая разница в темпах восстановления сельского хозяйства и промышленности. К 1923 году сельское хозяйство было восстановлено на 70 % к довоенному уровню, а фабричная промышленность – только на 39 %. Столь большое несоответствие вело, с одной стороны, к удорожанию изделий промышленных товаров, а с другой – к удешевлению деревенских товаров и снижению покупательной способности крестьян [17].
Кризис сбыта разразился в стране в условиях большого недопроизводства, когда выработка всей российской промышленности не превышала 9–10 % довоенного производства, а производимая продукция была представлена в основном предметами домашнего обихода, товарами широкого потребления и про стыми орудиями труда.
Работники сельскохозяйственной кооперации внимательно следили за со стоянием отечественной промышленности и регулярно давали экономические обзоры на страницах специальных изданий. Так, например, журнал «Бюллетень Сельскосоюза» печатал сведения о количестве выпускаемой техники для сельского хозяйства.
Таблица 1
Сравнительная таблица производства сельскохозяйственных машин и сельскохозяйственного инвентаря в 1913, 1920, 1921 и 1922 годах
|
Годы |
со § ® s о F со |
g С |
1-0 |
S
|
кО и |
S О X© 0х |
|
|
1913 |
826 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1920 |
276 |
12 |
5,5 |
1,5 |
80 |
14 |
1,6 |
|
1921 |
73 |
14,7 |
4,6 |
0,4 |
70 |
24 |
1,6 |
|
1922 |
26 |
13 |
9,7 |
5,6 |
86 |
21 |
1,8 |
Как видно из таблицы, наиболее резко снизилось производство усовершенствованных машин (сеялок, молотилок и т. п.), в то время как производство кос в 1922 году составляло 86 % от уровня 1913 года. Но из-за кризиса сбыта даже эти изготовленные в небольшом количестве заводские орудия труда лежали на складах. Сельскосоюз считал это явление «настолько угрожающим, что если положение не изменится, то мы встанем перед фактом полного отсутствия спроса со стороны населения на сельскохозяйственные орудия и машины, а вместе с тем полного провала всех предположений на восстановление отечественного машиностроения» [18].
В условиях кризиса сбыта снабженческие операции Крайсоюза были невелики. В 1923 году со складов Трудсоюза и Сельскосоюза Край-союз получил 5 сортировок, 20 молотилок, 43 плуга, 95 борон, 100 соломорезок, 53 сепаратора и разной молочной посуды на 2450 руб., семян трав и огородных культур на 3500 руб. В 1923 году в низовые товарищества крестьянам было отправлено 460 кос и серпов, 18 сепараторов, 289 пудов семян. В 1924 году для крестьянских хозяйств Крайсоюз закупил различных орудий труда на 85 тысяч руб., в том числе 420 плугов, 240 борон, 110 веялок, 200 соломорезок [19].
За границей очень внимательно следили за тем, что происходит в Советской России. Эмигранты, бывшие кооперативные работники, так оценивали создавшуюся в 1923 году ситуацию: «Получается удивительная вещь: вся страна, работая на обломках инвентаря, нуждается в его восстановлении, а в то же время заводы держат его запасы на своих складах, потому что никто не хочет или не может покупать этот инвентарь. Все дело в том, что заводы не отпускают своего товара в кредит, а сельское население не располагает средствами для немедленного расчета» [20].
Кооперативные работники в Советской России также понимали, что для восстановления промышленности и сельского хозяйства требовались немалые средства. А. В. Чаянов отмечал: «Слабое еще крестьянское хозяйство еще не может сберечь этих средств из своих скудных доходов и не имеет ни одного источника к их получению, поэтому единственной возможностью удовлетворить эту нужду является помощь со стороны», т. е. сельскохозяйственный кредит [21].
21 декабря 1922 года был издан декрет ВЦИК и СНК «О восстановлении сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности и об организации для крестьянства сельскохозяйственного кредита». Однако в условиях расстроенной финансовой системы до денежной реформы 1923/24 гг. выдача кредитов была затруднена. 24 января 1924 года был принят декрет ВЦИК и СНК «О кредитной кооперации». Позднее кредитные функции были предоставлены также потребительским обществам, сельскохозяйственным и кустарно-промысловым товариществам, что облегчило получение крестьянством кредитов на приобретение техники. Создание системы сельскохозяйственного кредита способствовало укреплению финансового положения кооперации и численному росту кооперативов.
В январе 1924 года было издано также постановление ЦИК и СНК СССР «О мерах к облегчению для крестьянства покупки сельскохозяйственных орудий». Государственные учреждения и предприятия, кооперативные организации должны были продавать сельскохозяйственные орудия крестьянству по довоенной цене. Крестьянам предоставлялся долгосрочный кредит на срок от одного года до пяти лет. Преимущественное право на эти льготы предоставлялось членам сельскохозяйственных кооперативов, обществ сельскохозяйственного кредита и сельских кредитных товариществ. В 1925 году вышло новое постановление ЦИК СССР «О льготной продаже крестьянству сельскохозяйственных машин и орудий, производимых государственными заводами». Кредит при продаже машин и орудий труда в первую очередь представлялся маломощным и середняцким хозяйствам на срок от одного до трех урожаев, при продаже машин сельскохозяйственным кооперативам срок кредитования мог быть увеличен до четырех урожаев [22].
Сельскохозяйственные товарищества на местах обсуждали условия приобретения техники и принимали соответствующие решения. Так, например, члены правления Медвежьегорского кооперативного товарищества «Колонист» на своем заседании 15 февраля 1925 года «слушали правила продажи сельскохозяйственных орудий труда, машин, семян, удобрений. Постановили: считать продажу предметов производства желательной и необходимой; признать условия продажи, изложенные в правилах, вполне приемлемыми для товарищества. В кратчайший срок разработать и подать заказ на машины, орудия, семена с выдачей обязательства на сумму заказа. Оповестить население ближайших деревень о закупке товариществом машин, семян и орудий, а также об условиях их продажи. Приобретение крупных машин производить по вполне твердым заказам, обеспеченным задатком» [23].
В Крайсоюз поступало много заявок на приобретение рабочего скота. Одна лошадь приходилась на 13 хозяйств. Для покупки лошади крестьяне вносили аванс 50–250 руб. В 1923/24 гг. в Смоленской и Витебской губерниях было закуплено 178 лошадей на сумму свыше 39 тысяч руб. и передано в низовую кооперативную сеть. В 1924 году в Финляндии Крайсоюзом было приобретено 225 лошадей, из которых 70 были переданы в Петрозаводский уезд. Лошади распределялись по сельскохозяйственным товариществам, а последние совместно с волисполкомами и крестьянскими комитетами распределяли лошадей между крестьянами. Безлошадным крестьянам лошади отпускались на льготных условиях с рассрочкой платежа на один год [24].
В 1924 году был снова открыт маслодельный завод в селе Шуньга. На организацию маслодельных заводов на кооперативных началах поступили заявки из других карельских сел: Сенная Губа, Погран-Кондуши, Вешкелицы. Одним из основных препятствий на пути создания таких заводов и развития кооперативного маслоделия было отсутствие в крае мастеров-маслоделов. В 1920-е годы открывались специальные кооперативные курсы по подготовке как мастеров маслоделов и сыроделов, так и счетоводов, бухгалтеров. Программа таких курсов была очень насыщенной. Сначала проводилось предварительное обучение арифметике, иногда даже письму и чтению. Затем шли лекционные занятия по таким курсам, как: молоковедение и бактериология; переработка молока; постройка и оборудование молокозавода; молочная и маслодельная кооперация; скотоводческие и контрольные товарищества. С курсантами проводились и практические занятия по темам: анализ молока; работа с сепаратором; счетоводство. Такие курсы проводились как в Лениграде при Центральном сельскохозяйственном обществе Северо-Западной области «Землетруд», так и в Петрозаводске при Краевом союзе сельскохозяйственной кооперации [25].
Постепенное восстановление сельского хозяйства потребовало от кооперации углубления и расширения агрикультурной работы. При Карельском союзе сельскохозяйственной кооперации было создано агрикультурное бюро. Оно ставило своей целью пропаганду передовых методов растениеводства, рационализацию полеводства и луговодства, организацию показательных участков. Так, по договору с НКЗ от 23 февраля 1924 года Крайсоюз взял в аренду сроком на 12 лет подсобное хозяйство, бывшую коммуну «Братство». Хозяйство коммуны находилось в крайне запущенном состоянии, на приведение хозяйства в порядок в первые месяцы было затрачено 12660 руб. из средств Крайсоюза. В хозяйстве был устроен показательный участок, где выращивалась рассада огурцов, капусты и других огородных культур для продажи населению [26].
Одним из важных направлений деятельности Краевого союза было создание новых кооперативных товариществ в деревнях и селах Карелии. В правлении был инструкторский отдел, который и вел работу по организации кооперативов «путем самовыезда на места». В момент образования в Крайсоюз входили всего 6 кооперативных огородных артелей и одно общество животноводов, которые были созданы жителями Петрозаводска с целью выхода из продовольственного кризиса. Постепенно Крайсоюз распространил свою деятельность на уезды и объединил почти всю низовую сеть сельскохозяйственной кооперации Карелии. В 1921–1922 годах повсеместно шел процесс восстановления старых и создания новых кооперативов универсального типа. Хроническое безденежье сдерживало накопление собственных средств как у крестьян, так и у кооперативных товариществ, что обусловило их финансовую слабость. Это было связано с низкой товарностью крестьянского хозяйства, его ориентацией на внутреннее потребление, а не на рынок. Но уже в середине 1920-х годов с ростом товарности сельского хозяйства все больше появляется специализированных сельскохозяйственных кооперативов.
На 1 июня 1923 года в Крайсоюз входили уже 39 организаций (1169 человек): 18 сельскохозяйственных, 17 промысловых и 2 кредитных товарищества, а также Шальский союз и Выте-горский союзы кооперативов. На 1 января 1924 года Крайсоюз объединял 21 кооператив (824 человека) и 2 союза с 18 кооперативами и 820 членами (всего 1644 человека). В феврале 1925 года Крайсоюз объединял 70 сельскохозяйственных кооперативов (4611 членов) и 18 кустарно-промысловых товариществ (120 членов), что составляло 15,6 % от общего числа крестьянских хозяйств республики. В начале 1925 года союз объединял 82 кооператива с 5522 членами, из них 14 кустарно-промысловых, 16 кредитных и 52 сельскохозяйственных товарищества. Причем 23 кооператива объединялись Шальским и Вытегорским союзами, входившими в свою очередь в состав Крайсоюза. Помимо системы Крайсоюза, в это время существовали так называемые «дикие» кооперативы: 26 мелиоративных и 14 кредитных товариществ.
Финансовое положение Крайсоюза не было стабильным. Крайсоюз приступил к работе 1 января 1922 года, имея в распоряжении довольно скромные средства – 2,37 млн. руб. По курсу 1922 года на эту сумму можно было обменять 3 пуда хлеба или 3 1/3 фунта масла. Членский взнос для низовых кооперативов составлял 50 фунтов хлеба. Как говорилось в отчете председателя правления Крайсоюза А. П. Тихомирова, «на начало работы имелось лишь 3 рубля баланса, на 1 июля 1923 г. баланс составлял 26 тыс. руб., на 1 октября 1923 г. – 84 тыс. руб., на 1 января 1924 г. – 122 тыс. руб. Первые полтора года деятельности были удачны для Край-союза: в 1923 году его прибыль составила 36.634 руб. 68 коп, в переводе на золото 2138 руб 86 коп. [27]. Главными кредиторами Крайсоюза были Коммунальный банк, ЦСХБ, Всекобанк, Северо-Западная контора Госбанка, Текстильный синдикат, Камвольный трест, Промвоен-тогр, Брянский пенькотрест, Мальцевские заводы. С целью получения дополнительных средств для вкладывания их в развитие сельского хозяйства Крайсоюз занимался торговлей различными товарами. Торговые операции иногда выглядели со стороны очень странно, но были выгодны Крайсоюзу. Так, например, в августе 1924 года в Курске под векселя купили табачные изделия (махорку и папиросы «Дядя Алексей»), в октябре часть папирос променяли на валенки Коммерческому агентству, в ноябре валенки проме- няли Шальскому союзу на сущик, который отправили в Лодейное Поле. В декабре 1924 года в Лодейном Поле сущик променяли на мясо в Олонецком уезде, а мясо сдали по договору в Наркомпрос, который деньги уплатил только в уплатил только в феврале 1925 года.
Крайсоюз принимал участие в сезонных и сельскохозяйственных ярмарках, проходивших в 1920-е годы в различных городах и селах Карелии. Так, в селе Шуньга проводилась традиционная зимняя ярмарка. 19–25 января 1925 года на этой ярмарке Крайсоюз вел торговлю пушниной, кустарными изделиями, мануфактурой, кожсырьем, рыбой. Для продажи на Шуньгской ярмарке Донское товарищество предложило Крайсоюзу 2 тысячи пар шерстяных варежек по 12 коп. за пару.
Торговый отдел Крайсоюза производил торговлю со своих складов и магазинов в Петрозаводске, Лодейном Поле, Олонце и других населенных пунктах Карелии. В 1925 году было открыто отделение Крайсоюза в Лениграде для сбыта продукции из Карелии (грибов, ягод, рыбы, дичи, лекарственных трав и т. п.). Отделение имело свой магазин на улице 3 июля, бывшей Сенной улице. Однако высокая арендная плата и изменение конъюнктуры лениградского рынка привели к закрытию отделения в декабре 1925 года [28].
В 1920-е годы в крестьянских хозяйствах Карелии наряду с сельским хозяйством по-прежнему большую роль играли промысловые занятия. Здесь наибольшее распространение получили лесной (заготовка и сплав леса), бондарный, гончарный и кузнечный промыслы, производство смолы и дегтя, добыча извести, мрамора. Низовые промысловые товарищества занимались также сбором дубильного сырья, ивового корья, жжением древесного угля, обработкой точильных брусков. Доходы от различных промыслов составляли значительную часть бюджета кооперированных крестьянских хозяйств. Крайсоюз вел заготовку и сбыт изделий кустарных промыслов, прежде всего бондарной посуды, тары под треску (бочек-трещанок), смолы и дегтя. Сбыт этой продукции осуществлялся на рынках Ленинграда и Мариинской водной системы, на побережье Белого моря и на местных ярмарках.
Крайсоюз заключил несколько договоров на заготовку и поставку различным организациям пушнины, сена, семенного овса, мяса, рыбы, дичи, масла и т. п. По заготовкам и сбыту сельхозпродукции и изделий кустарных промыслов известно, что к 1 июня 1923 года от Шуньгского сельскохозяйственного товарищества продано 16 пудов масла; от кустарных артелей – 1513 бондарных, 881 щепных, 622 гончарных, 1030 кузнечных изделий и 51 колесо, 392 пуда смолы и дегтя. В 1924 году было заготовлено мяса на 13,5 тысяч руб., ивового корья для Кожтреста заготовлено 5914 пудов, для УСЛОНа – 3652 пуда. Также были выполнены договоры на поставку пушнины, овощей, фуража, дров и лесо- материалов на 170650 руб. 18 октября 1924 года был заключен договор между двумя кооперативными союзами – Каронегсоюзом и Крайсоюзом. Крайсоюз принял на себя обязательство на поставку Каронегу мяса (живого рогатого скота) в течение ноября 1924 года. Поставляемый Каронегсоюзу скот подлежал реализации на розничном рынке через Центральный рабочий кооператив города Петрозаводска [29].
В октябре 1924 года государством было принято решение об увязке взимания сельхозналога с кооперативными заготовками, заготовительные планы кооперации согласовывались со сбором сельхозналога. В Карелии в 1924/25 годах планировалось собрать сельхозналога на сумму 320 тысяч руб. К сборам сельхозналога и заготовкам скота, сена было решено привлечь все крупные кооперативные союзы Карелии: КарелоПрионежский союз, Кемско-Ухтинский союз и Крайсоюз. Для этого предполагалось открыть краткосрочный кредит на сумму около 3 тысяч червонцев. Кооперация, проводя заготовки за наличный расчет, могла оказать большую поддержку крестьянству и сохранить их продукцию от обесценивания частными скупщиками, что, по мнению представителей правительства Карелии, имело большое политическое значение [30].
С целью получения дополнительных оборотных средств Крайсоюз заключил ряд договоров на поставку дров с такими организациями, как: Северокустарь, Всеколес, Ленинграджел-дорлес. Лесозаготовками занимались лесные артели и союзы, входившие в систему Крайсою-за: Вытегорский промысловый союз, Шальский, Юксовский союзы кооперативов, Ивинское и Муромльское товарищество. В сезон 1923/24 годов товарищества заготовили дров больше, чем было обусловлено договорами, но правление Крайсоюза решило поддержать первичные кооперативы и артели, чтобы обеспечить занятость населения в районах развития лесного промысла. В Карелии этот период был связан с неурожаем и голодом в 1923–1924 годах, поэтому доходы от лесных промыслов были очень важны для всех крестьянских хозяйств [31].
Партия большевиков рассматривала кооперацию как «столбовую дорогу к социализму» и стремилась поставить во главе кооперативных союзов людей, «преданных делу революции». Олонецкий губком РКП(б) считал Крайсоюз «организацией незаконной», так как «Крайсоюз в лице его первых руководителей вел исключительно семейно-замкнутую работу, всячески избегая публичных отчетов и выступлений, всячески избегал гласности и предоставления планов в соответствующие госучреждения НКЗ, Карплан и др.» Таким образом Крайсоюз оставался «без определенного контроля со стороны советских и партийных органов». Больше всего эти органы были возмущены тем, что в правлении Крайсою-за не было ни одного члена РКП(б), организаторами и руководителями кооперативного союза были эсеры Тихомиров, Прохоров, Капусткин, меньшевик Абакумов, кадеты Кожевников и Наймарк [32].
Считая, что «кооперация находится в руках спецов, работающих в советском духе не за совесть, а за страх», Карельский обком РКП(б) неоднократно давал указания по «очистке аппарата кооперации от контрреволюционных элементов», поскольку «введение в правление Край-союза наибольшего числа коммунистов внесет свежую струю в атмосферу старой кооперации, оживит ее деятельность и направит твердою рукою по новому курсу». В правлениях кооперативных товариществ коммунистические фракции должны были проводить «твердую коммунистическую линию в кооперативной работе». Для этого на местах нужно было подыскать «деловых, опытных, хозяйственных, имеющих хотя бы небольшой кругозор коммунистов», даже без опыта работы в кооперации [33].
Карельский и Олонецкий губкомы РКП(б) стремились подчинить Крайсоюз, поставить его под жесткий контроль. С этой целью использовалась местная печать и участие советских и партийных работников в деятельности перевыборных собраний. В газете «Красная Карелия» были проведены небезуспешные кампании против Крайсоюза с критикой старого правления. Самостоятельная деятельность кооператоров без контроля со стороны органов Советской власти и партии большевиков оценивались как «экономическая контрреволюция» и «злое намерение подорвать сельскохозяйственную кооперацию в Карелии». Партийное руководство республики решило избрать новое правление, которое должно было стать «на подлинно кооперативный путь, решительно устранить путь кулачества и спекуляции в работе Крайсоюза» [34].
10 июля 1923 года было проведено очередное собрание уполномоченных Крайсоюза. На собрании был заслушан отчет руководящих работников кооперативного союза и избраны новые органы: правление, совет и ревизионная комиссия. Правление теперь состояло из трех человек: А. П. Тихомиров (председатель), Н. Д. Крячков и А. И. Татаринов. В Совет Крайсоюза входили семь человек: М. С. Стратонников, Г. В. Логинов, П. Ф. Якунин, А. В. Шотман, Ф. Е. Поттоев, И. А. Ярвисало, Я. С. Калиновский. В ревизионную комиссию вошли А. Ф. Кожевников, Н. И. Павлов, О. Г. Саар. О. Г. Саар был заместителем заведующего Карземуправления, членом РКП(б). Председатель правления Крайсоюза так прокомментировал это событие: «В состав правления Крайсоюза с согласия последнего включены представители местной партии коммунистов» [35].
В 1924 году правительство Карельской республики снова вмешалось в работу Крайсоюза и рекомендовало избрать новое правление. На очередном собрании уполномоченных 26 августа 1924 года старое правление во главе с А. П. Тихомировым было снято со своих по- стов. Было избрано новое правление в составе пяти человек: И. А. Ярвисало (председатель Совета Крайсоюза), П. В. Спиридонов (председатель ревизионной комиссии), М. В. Ларионов (председатель правления), Н. Д. Крячков, Т. А. Пименов. Все они были членами РКП(б) с 1917–1918 гг. И. А. Ярвисало и П. В. Спиридонов имели среднее образование, остальные – низшее. Во время избрания его на пост руководителя союза сельскохозяйственной кооперации М. В. Ларионов работал в Сельхозбанке и трех комиссиях сразу, поэтому к своим обязанностям он смог приступить только через месяц. М. В. Ларионов пробыл в должности председателя правления Крайсоюза до марта 1925 года, а затем перешел на работу в Наркомзем. На собрании был увеличен численный состав Совета Крайсоюза. В 1924 году в него вошли 16 членов РКП(б), из них только один человек имел опыт работы в кооперации до 1917 года [36].
В 1923/24 г. кооперация переживала тяжелый финансовый кризис, связанный с денежной реформой и снижением цен на сельхозпродукцию в общегосударственном масштабе, что совпало с первым кризисом нэпа – кризисом сбыта. В 1923 году Крайсоюз был одним из лучших кооперативных союзов страны, собственные средства составляли 20 % баланса союза, но в начале 1924 года они упали до 2 %. Ухудшение финансового положения Крайсоюза было связано со снижением торговых оборотов низовых товариществ, задолженностью Наркомфина перед кооперативными организациями, общей финансовой ситуацией в стране.
Большие убытки принесли Крайсоюзу лесозаготовительные операции, так как теплой осенью 1923 года и зимой 1923/1924 гг. спрос на дрова был на 50 % меньше, чем в прошлые годы. Кроме того, в это время большинство фабрик, заводов, учреждений Ленинграда стало переходить с дров на минеральное топливо – уголь, потребность в дровах резко сократилась. В результате сложившихся обстоятельств образовался долг 16 тысяч червонцев (174 тысячи руб.)
Для оздоровления финансовой ситуации в конце 1924 года СНК АКССР дал Крайсоюзу ссуду в размере 20 тысяч руб. Председатель правления М. В. Ларионов имел свой план деятельности союза: развивать льноводство, скотоводство и маслоделие, вести заготовку и сбыт ягод, грибов, дичи, пушнины, построить мельницы, кожевенные заводы и маслозаводы, возродить крестьянские кустарные промыслы (круже-воплетение, производство деревянных игрушек и изделий из бересты), организовать производство и сбыт продуктов сухой перегонки дерева (смола, деготь, скипидар).
Однако новое правление не могло сразу улучшить финансовое положение Крайсоюза. По мнению некоторых кооперативных работников, новое правление во главе с М. В. Ларионовым упустило время для организации сезонных про- мыслов по заготовке леса и пушнины, заключило убыточный договор с госпароходством на поставку березы. На складах Крайсоюза не было надлежащего ассортимента товаров, необходимых в крестьянском хозяйстве. Не удалось получить прибыль и от «дровяной операции». Вот что сообщал член правления Н. Д. Крячков председателю правления М. В. Ларионову в письме от 11 ноября 1924 года: «Положение с платежами настолько обострилось, что у меня нет ни малейшей уверенности, что мы выйдем из создавшегося положения благополучно. Дрова продать нет пока никакой возможности, ибо погода стоит теплая, розничная продажа ничтожная, а оптовой нет благодаря привозу угля и отсутствию денег. Госбанк обирает до последней копейки вырученные деньги на розничной продаже, поэтому нет денег, чтобы платить за аренду складов» [37].
В конце 1924 года задолженность Крайсоюза составляла уже 260 тысяч руб. Для погашения долга правительство Карелии предприняло ряд мер: выдача кредитов, пролонгирование платежей и списание долгов. Также правительство Карелии обратилось в ЭКОСО РСФСР с ходатайством о предоставлении Крайсоюзу ссуды в размере 120 тысяч руб., 40 тысяч безвозвратный и 80 тысяч руб. долгосрочный кредит.
В докладной записке в ЭКОСО РСФСР председатель СНК АКССР Э. Гюллинг писал: «Финансовый кризис наступил в связи с тем, что работа Крайсоюза приобрела неправильный уклон: вместо развития сельскохозяйственной кооперации, союз развил чисто торговые операции, в которых вследствие неподготовленности и неумения вести дело понес крупные убытки. Крайсоюз оказался на грани ликвидации, что было нежелательно по политическим соображениям, так как это дискредитирует в глазах малосознательного населения значение кооперации, но и может быть использовано финской и белокарельской реакцией для агитации против Советской власти» [38].
25 февраля 1925 года состоялось внеочередное собрание уполномоченных Крайсоюза, которое рассмотрело вопрос о тяжелом финансовом положении Крайсоюза. При выяснении причин увеличения задолженности этого кооперативного союза все выступавшие от советских и партийных органов всю вину возложили на старое правление. Председатель ЦИК КАССР А. Ф. Нуортева сказал: «Надо отрешиться раз и навсегда от Тихомировых и компании, которые умеют только производить траты государственных и партийных денег, подрывать авторитет Советской власти и подкапывать основу сельскохозяйственной кооперации. Надо дальнейшую работу вести в контакте с госорганами, с центральной карельской властью и партией и согласовывать ее с банками» [39].
На внеочередном собрании 25 февраля 1925 года был избран новый состав правления союза, куда вошли советские и партийные работники М. Я. Абрамов, И. П. Парамошков, Ф. Е. Потто-ев. Председателем правления стал бывший работник Наркомвнуторга М. Я. Абрамов, который возглавлял Карсельсоюз до его ликвидации в 1926 году. Крайсоюз был переименован в Карельский союз сельскохозяйственных, кредитных и кустарно-промысловых кооперативов (Карсельсоюз). В заключительном слове А. Ф. Нуортева сказал: «Четыре года Карелия неуклонно идет по пути усовершенствования, и только один Крайсоюз идет не в ногу. Всем было больно видеть эту отсталость Крайсоюза. Госорганы, партия и центральная власть вывели сейчас Крайсоюз на должную дорогу» [40].
Новому правлению удалось улучшить финансовое положение Карсельсоюза. К апрелю 1926 года оно сократило задолженность на 75 тысяч руб., уменьшились накладные расходы, произошло укрепление первичных кооперативов. Однако внешний долг Крайсоюза был по-прежнему большим, собственных средств для работы союза не хватало. В апреле 1926 года из-за больших убытков этот союз был ликвидирован, а сельскохозяйственные и промысловые товарищества Карелии остались без своего кооперативного центра [41].
Следует заметить, что в эти годы финансовое обеспечение всей системы сельскохозяйственной кооперации было крайне недостаточным. Соотношение между собственными и привлеченными средствами складывалось не в пользу кооперативных организаций. В 1925–1926 годах у многих союзов сельскохозяйственной кооперации Северо-Западной области РСФСР по сводному балансу заемные средства составляли 90 %, собственные – всего 10 %. При этом собственные средства складывались из стоимости паев, имущества и предприятий. В условиях сокращения товарного кредитования оборот финансовых средств происходил медленно, что не увеличивало доходы кооперативных союзов. Заемные средства состояли из краткосрочных ссуд. Хроническим недостатком в работе сельхозко-операции было несовпадение сроков оборачиваемости товаров со сроками кредитования. Отсутствие собственных средств, резервных фондов и запасных капиталов не позволяло кооперативным союзам вовремя ликвидировать это несовпадение и нерасчетность балансов.
С осени 1925 года произошло резкое сокращение товарного кредитования и финансовой помощи со стороны ЦСХБ. В этих условиях многие районные союзы сельскохозяйственной кооперации не могли продолжать свою деятельность и были ликвидированы. Только в СевероЗападной области в 1925–1926 годах прекратили свое существование 18 союзов сельскохозяйственной кооперации, а в апреле 1926 года в связи с тяжелым финансовым положением был ликвидирован областной центр сельскохозяйственной кооперации – Трудсоюз.
По мнению современных исследователей, одной из причин финансового кризиса сельскохозяйственной кооперации середины 1920-х годов было противоборство и противоречие между государственной системой сельхозкредита и сель-хозкооперацией. К весне 1925 года лишь 19 союзов сельскохозяйственной кооперации РСФСР имели прибыльный и ликвидный баланс. В то же время происходило усиление финансовой мощи государственной системы сельхозкредита, к апрелю 1925 года баланс ЦСХБ достиг 100 млн. руб. Вопрос о взаимоотношениях систем государственного сельхозкредита и сельхозкоопера-ции рассматривался даже на XIV партийной конференции, проходившей в апреле 1925 года, но и это мероприятие не улучшило финансового положения кооперативных союзов [42].
После ликвидации Карсельсоюза некоторые низовые сельскохозяйственные товарищества распались. Однако подъем сельского хозяйства Карелии, развитие товарно-денежных отношений, рост товарности крестьянских хозяйств способствовали дальнейшему развитию сельскохозяйственной кооперации. Руководство и помощь в организации различных специальных товариществ осуществлял Наркомат земледелия. О развитии сельскохозяйственной и кредитной кооперации свидетельствует данная таблица:
Таблица 2
Сельскохозяйственная кооперация Карелии в 1926–1929 годах.
Товарищества
Мелиоративные Машинные Кредитные
Масло- и сыродельные
Бычьи кооперативы Оленеводческие Коневодческие
Прочие
|
1926 г. |
1927/28 г. |
1928/29 г. |
|||
|
о со и со ° н о 03 s & У с |
S Я о ® Ч и У я s О У я |
о со и со ° н к ^ У с |
9 ё g я й я s О У я |
о со и со ° н к ^ У с |
о и Ч СО s о У и |
|
95 |
1830 |
240 |
5650 |
300 |
6500 |
|
16 |
205 |
104 |
750 |
150 |
1750 |
|
25 |
6113 |
51 |
17085 |
82 |
18726 |
|
2 |
123 |
20 |
730 |
20 |
800 |
|
- |
- |
40 |
1200 |
52 |
1500 |
|
7 |
126 |
3 |
60 |
3 |
60 |
|
- |
- |
1 |
22 |
1 |
22 |
|
15 |
339 |
11 |
179 |
16 |
280 |
В 1928/29 гг. в Карелии действовали 604 сельскохозяйственных кооператива. Наиболее распространенными были мелиоративные (300) и машинные (150) товарищества. Самыми большими по охвату населения были кредитные кооперативы: 82 кредитных товарищества объединяли 18726 хозяйств. В Карелии также существовали масло- и сыродельные артели, животноводческие и прочие сельскохозяйст- венные кооперативы. Сельскохозяйственная кооперация Карелии пошла по пути специализации, однако в 1929 году этот процесс был остановлен в связи с началом сплошной коллективизации сельского хозяйства [43].
Таким образом, сельскохозяйственная кооперация внесла большой вклад в развитие сельского хозяйства Карелии, повышение агрокультуры крестьянских хозяйств, снабжение их семенами, рабочим скотом, орудиями труда.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
-
1. Чаянов А . В . Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации // Чаянов А. В. Избранные произведения: Сб. М., 1989. С. 190, 196.
-
2. Великая Октябрьская социалистическая революция: энциклопедия. М., 1987. С. 242.
-
3. Дмитриева В . А . Деятельность КПСС по развитию сельскохозяйственной кооперации на Европейском Севере СССР до начала массовой коллективизации (1917–1928 гг.). Вологда, 1974. С. 18, 42; Кооперация Севера. 1921. № 1. С. 17; Десятилетие Северосоюза. Вологда, 1922. С. 8.
-
4. История экономики Карелии: в 3-х кн. Кн. 1. Петрозаводск, 2005. С. 156–157.
-
5. Там же; Пришвин М. М. За волшебным колобком. Петрозаводск, 1987. С. 67, 68.
-
6. Дмитриева В. А. Деятельность КПСС по развитию сельскохозяйственной кооперации на Европейском Севере СССР до начала массовой коллективизации (1917–1928 гг.). Вологда, 1974. С. 18, 42; Национальный архив Республики Карелия (далее – НАРК). Ф. 12. Оп. 1. Д. 14/177. Л. 39–40.
-
7. Храневич К . И . Сельскохозяйственная кооперация в России // Кооперация и сельское хозяйство. Записки Русского института сельскохозяйственной кооперации в Праге. Кн. 1. Прага, 1924. С. 151.
-
8. Сельскохозяйственная кооперация в условиях новой экономической политики. М., 1923. С. 30.; Колхознокооперативное строительство в СССР. 1917–1922 гг. М., 1990. С. 283.
-
9. Правда. 1921. 23 августа.
-
10. История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2001. С. 454.
-
11. Колхозно-кооперативное строительство в СССР. 1917–1922 гг. С. 274–275.
-
12. НАРК. Ф. 244. Оп.1. Д. 4/33. Л. 315.
-
13. Там же. Д. 9/100. Л. 15.
-
14. Там же. Д. 9/100. Л. 15; История Карелии с древнейших времен до наших дней. С. 455.
-
15. НАРК. Ф. 545. Оп. 1. Д. 1/187. Л. 17.
-
16. Сельскохозяйственная кооперация в условиях новой экономической политики. М., 1923. С. 131.
-
17. Историки спорят. 13 бесед / Под общей редакцией В. С. Лельчука. М., 1988. С. 159–160.
-
18. Бюллетень Сельскосоюза. 1922. № 9. С. 11.
-
19. НАРК. Ф. 244. Оп. 1. Д. 9/100. Л. 16–17.
-
20. Храневич К . И . Схема участия государства, капитала и кооперации в восстановлении народного хозяйства России // Кооперация и сельское хозяйство. Кн. 1. Прага, 1924. С. 27.
-
21. Чаянов А . В . Краткий курс кооперации. М., 1925. С. 49.
-
22. Вестник ЦИК и СТО СССР. 1924. № 1. Ст. 5; Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. 1925. № 32. Ст. 222.
-
23. НАРК. Ф. 244. Оп. 1. Д. 4/33. Л. 221.
-
24. Там же. Л. 15, 18, 20; Д. 17/219. Л. 16.
-
25. Там же. Д. 17/212. Л. 14.
-
26. Там же. Д. 17/221. Л. 134.
-
27. Там же.
-
28. Там же. Д. 4/40. Л. 105; Д. 4/44. Л. 272; Д. 9/100. Л. 20.
-
29. Там же. Д. 4/44. Л. 100; Д. 9/100. Л. 15–17.
-
30. Там же. Д. 4/44. Л. 46.
-
31. Там же. Д. 4/33. Л. 101; Д. 9/100. Л. 17.
-
32. Там же. Д. 4/33. Л. 88.
-
33. Карельский государственный архив новейшей истории. Ф. 3. Оп. 1. Д. 97. Л. 28, 12; Ф. 4. Оп. 1. Д. 291. Л. 2; Ф. 7. Оп. 1. Д. 42. Л. 18.
-
34. НАРК. Ф. 244. Оп. 1. Д. 7/75. Л. 38.
-
35. Там же. Д. 9/100. Л. 16.
-
36. Там же. Д. 7/75. Л. 38; Д. 4/33. Л. 130; Д. 4/40. Л. 19.
-
37. Там же. Д. 4/33. Л. 58.
-
38. Там же. Л. 85.
-
39. Там же. Д. 5/45. Л. 72.
-
40. Там же. Л. 74.
-
41. Сидорова Л . А . Сельскохозяйственная кооперация Карелии в 1920-е годы // Новое в изучении истории Карелии. Петрозаводск, 1994. С. 92.
-
42. Бунин А . О . Борьба кооперативных и государственных начал в организации кредитования деревни и ее влияние на судьбу нэпа // Нэп: приобретения и потери. М., 1994. С. 209.
-
43. История Карелии с древнейших времен до наших дней. С. 478.
Список литературы Сельскохозяйственная кооперация в Карелии (первая треть XX века)
- Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации//Чаянов А. В. Избранные произведения: Сб. М., 1989. С. 190, 196.
- Великая Октябрьская социалистическая революция: энциклопедия. М., 1987. С. 242.
- Дмитриева В. А. Деятельность КПСС по развитию сельскохозяйственной кооперации на Европейском Севере СССР до начала массовой коллективизации (1917-1928 гг.). Вологда, 1974. С. 18, 42.
- История экономики Карелии: в 3-х кн. Кн. 1. Петрозаводск, 2005. С. 156-157.
- Там же; Пришвин М. М. За волшебным колобком. Петрозаводск, 1987. С. 67, 68.
- Дмитриева В. А. Деятельность КПСС по развитию сельскохозяйственной кооперации на Европейском Севере СССР до начала массовой коллективизации (1917-1928 гг.). Вологда, 1974. С. 18, 42.
- Храневич К. И. Сельскохозяйственная кооперация в России//Кооперация и сельское хозяйство. Записки Русского института сельскохозяйственной кооперации в Праге. Кн. 1. Прага, 1924. С. 151.
- Сельскохозяйственная кооперация в условиях новой экономической политики. М., 1923. С. 30.
- Правда. 1921. 23 августа.
- История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2001. С. 454.
- Колхозно-кооперативное строительство в СССР. 1917-1922 гг. С. 274-275.
- НАРК. Ф. 244. Оп.1. Д. 4/33. Л. 315.
- Там же. Д. 9/100. Л. 15.
- Там же. Д. 9/100. Л. 15.
- НАРК. Ф. 545. Оп. 1. Д. 1/187. Л. 17.
- Сельскохозяйственная кооперация в условиях новой экономической политики. М., 1923. С. 131.
- Историки спорят. 13 бесед/Под общей редакцией В. С. Лельчука. М., 1988. С. 159-160.
- Бюллетень Сельскосоюза. 1922. № 9. С. 11.
- НАРК. Ф. 244. Оп. 1. Д. 9/100. Л. 16-17.
- Храневич К. И. Схема участия государства, капитала и кооперации в восстановлении народного хозяйства России//Кооперация и сельское хозяйство. Кн. 1. Прага, 1924. С. 27.
- Чаянов А. В.Краткий курс кооперации. М., 1925. С. 49.
- Вестник ЦИК и СТО СССР. 1924. № 1. Ст. 5; Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. 1925. № 32. Ст. 222.
- НАРК. Ф. 244. Оп. 1. Д. 4/33. Л. 221.
- Там же. Л. 15, 18, 20; Д. 17/219. Л. 16.
- Там же. Д. 17/212. Л. 14.
- Там же. Д. 17/221. Л. 134.
- Там же. Д. 4/40. Л. 105; Д. 4/44. Л. 272; Д. 9/100. Л. 20.
- Там же. Д. 4/44. Л. 100; Д. 9/100. Л. 15-17.
- Там же. Д. 4/44. Л. 46.
- Там же. Д. 4/33. Л. 101; Д. 9/100. Л. 17.
- Там же. Д. 4/33. Л. 88.
- Карельский государственный архив новейшей истории. Ф. 3. Оп. 1. Д. 97. Л. 28, 12; Ф. 4. Оп. 1. Д. 291. Л. 2; Ф. 7. Оп. 1. Д. 42. Л. 18.
- НАРК. Ф. 244. Оп. 1. Д. 7/75. Л. 38.
- Там же. Д. 9/100. Л. 16.
- Там же. Д. 7/75. Л. 38; Д. 4/33. Л. 130; Д. 4/40. Л. 19.
- Там же. Д. 4/33. Л. 58.
- Там же. Л. 85.
- Там же. Д. 5/45. Л. 72.
- Там же. Л. 74.
- Сидорова Л. А. Сельскохозяйственная кооперация Карелии в 1920-е годы//Новое в изучении истории Карелии. Петрозаводск, 1994. С. 92.
- Бунин А. О. Борьба кооперативных и государственных начал в организации кредитования деревни и ее влияние на судьбу нэпа//Нэп: приобретения и потери. М., 1994. С. 209.
- История Карелии с древнейших времен до наших дней. С. 478.
- Национальный архив Республики Карелия (далее -НАРК). Ф. 12. Оп. 1. Д. 14/177. Л. 39-40.
- Национальный архив Республики Карелия (далее -НАРК). Ф. 12. Оп. 1. Д. 14/177. Л. 39-40.
- Колхознокооперативное строительство в СССР. 1917-1922 гг. М., 1990. С. 283.
- История Карелии с древнейших времен до наших дней. С. 455.