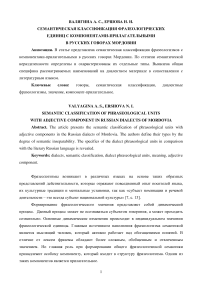Семантическая классификация фразеологических единиц с компонентами-прилагательными в русских говорах Мордовии
Автор: Валягина А.С., Ершова Н.И.
Журнал: Огарёв-online @ogarev-online
Статья в выпуске: 9 т.11, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена семантическая классификация фразеологизмов с компонентами-прилагательными в русских говорах Мордовии. По степени семантической неразделенности определены и охарактеризованы их отдельные типы. Выявлена общая специфика рассматриваемых наименований на диалектном материале в сопоставлении с литературным языком.
Говоры, диалектные фразеологизмы, значение, компонент-прилагательное, семантическая классификация
Короткий адрес: https://sciup.org/147250437
IDR: 147250437 | УДК: 81?373:81?282.2(470.345)
Текст научной статьи Семантическая классификация фразеологических единиц с компонентами-прилагательными в русских говорах Мордовии
Фразеологизмы возникают в различных языках на основе таких образных представлений действительности, которые отражают повседневный опыт носителей языка, их культурные традиции и ментальные установки, так как «субъект номинации и речевой деятельности – это всегда субъект национальной культуры» [7, с. 13].
Формирование фразеологического значения представляет собой динамический процесс. Данный процесс может не осознаваться субъектом говорения, а может проходить сознательно. Основные динамические изменения происходят в индивидуальном значении фразеологической единицы. Главным источником наполнения фразеологизма семантикой является мыслящий человек, который активно работает над обогащениями понятий. В отличие от лексем фраземы обладают более сложным, обобщенным и отвлеченным значением. Но главная роль при формировании общего фразеологической семантики принадлежит особому компоненту, который входит в структуру фразеологизма. Одним из таких компонентов является прилагательное.
Становясь компонентом фразеологической единицы, прилагательные испытывают семантические изменения на уровне категориального, субкатегориального и индивидуального значения [5, с. 13]. Они утрачивают связь с лексико-семантической или предметно-тематической группой, в которую входило какое-либо прилагательное, употребляясь отдельно.
В русских говорах Мордовия функционируют как общенародные фразеологические единицы типа белая ворона, шарашкина контора , так и территориально ограниченные в своем употреблении вроде от красного лица , до мокрой спины и т.п. В настоящей статье исследуются именно диалектные фразеологические единицы с компонентами-прилагательными, бытующие в русских говорах Мордовии [6].
По степени семантической неразделённости диалектные фразеологизмы русских говоров Мордовии с компонентами-прилагательными можно разделить на три отдельные группы (типа) фразем, соответствующие классификации В. В. Виноградова [3].
Во-первых, это фразеологические сращения, т.е. идиомы абсолютно неразложимые и немотивированные отдельными компонентами. Таковыми являются фраземы: как муравая кочка «отсутствие порядка», напр.: Я к ей пришла, а она больнь зьхвораль, дети грязны бегьют, а в дому-ть как муравая кочкь. Тонькь хлышишьт везде, хьть бы домь убралас, сроду у ей как муравая кочка (Говорово, Старошайговский район); самоварная заглушка «о некрасивом человеке небольшого роста», напр.: Уйди уш, нь каво пахожь, сьмоварнь заглушкь (Кергуды, Ичалковский район).; на косую колодку « о привередливом человеке», напр.: Ана у миня нь касу калотку , то ей мылач-ка, то яичкт (Аксел, Темниковский район). Как он с ней жыть-ть будит, ана нь касу калотку , в жызни он ей ни угадит (Еремеево, Лямбирский район). Характерным признаком таких фразеологических сращений является их непроницаемость.
Во-вторых, фразеологические единства, которые в отличие от фразеологических сращений мотивированы значением входящих в них компонентов и представляют собой метафорическое переосмысление свободных сочетаний: труп ходячий «о худом человеке», напр .: Ты пылиди нь каво пахош, труп хадячий. У Мининых Слафка ис тюрьмы пришол, вылитый труп хадячий (Силино, Ардатовский район); моль кафтанная «о некрасивом, невзрачном человеке», напр.: Што ты ходиш за мной? Ты и нь чилавект-ть ни пахош. Так сибе, моль кафтаннь (Карпеловка, Торбеевский район); вылететь жигулёвской тройкой «стремительно выбежать», напр.: Жыману щас пь голяшкам, жыгулефскый тройкьй вылитиш (Мичурино, Чамзинский район). Как видим, особой частотностью в рассматриваемых говорах отличаются фразеологизмы, представляющие разноаспектную характеристику человека, что характерно и для диалектных лексем [4].
В-третьих, фразеологические сочетания, где обязательно присутствует один компонент со связанным значением, другой компонент при этом - со свободным. В отличие от сращений и единств, фразеологические сочетания разложимы, а компоненты реализуют свое прямое значение: в сильных годах «в расцвете лет», напр.: Ф то время-ть я ф сильных гадах была, работьла многь и ни уставала (Нагаево, Инсарский район). Ф сильных гадах мужык мой помир (Ямщина, Инсарский район); нагольный (наголовный) озорник «о том, кто склонен к озорству, хулиганству», напр.: Мужык у ей - нагольный азарник, фсю адёжу изрезьл. Нагольный азарник растёт, толькь и знат драцць са Фсеми (Лаврентьево, Темниковский район). Азарник он нагльвный : гулят-гулят нидели две, дь ищё дирёцць. Нос апять ей разбил. Што ты рьбитёнкьм ни даёш праходу-ть? Азарник ты нагьльвный (Кайбичево, Краснослободский район); лисичкин хлеб - хлеб, принесённый назад домой, напр.: Внучинькь, на-кь лисичкинь хлебь (Атемар, Лямбирский район). Лисин хлеп зьфсигда скусный (Павловка, Лямбирский район).
При последующем расширении границ понимания фразеологического состава языка эти три типа фразем стали называться ядром фразеологии. Н. М. Шанский добавил к этой классификации четвертую группу - фразеологические выражения, в которую вошли устойчивые семантически членимые обороты, состоящие только из слов со свободным значением, т.е. пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения. Такие в диалектных фразеологизмах с компонентами-прилагательными тоже наблюдаются, но составляют самую малочисленную группу.
К ним относятся: большой, да без гармони «о рослом, но не умном человеке», напр.: Паринь-ть энтьт большой, дь што в нем толку. Большой, дь биз гармони (Камаево, Ичалковский район); Чяво привязалси к систре, бальшой, дь биз гармони, ни сьбражаш, што чилавек бальной (Пурдошки, Темниковский район); на кудыкину гору воробьёв сшибать «неизвестно куда, неизвестно зачем», напр.: Вот нькудыкый мне ищё, нь кудыкину гору иду, вырабьеф шшыбать (Селищи, Краснослободский район); на глиняном заводе черепушки лить «умирать, готовиться к смерти», напр.: Пущай мьладыи жывут, а нам пара нь глинным заводи чиряпушки лить (Ямщина, Инсарский район); и в пир, и в мир, и в добры люди «носить одну и ту же одежду постоянно», напр.: Былъ у миня адно платье, вот я в нем и в пир, и в мир, и в добры люди (Старая Федоровка, Старошайговский район).
В разговорной речи, в том числе и диалектной, фразеологические единицы обычно носят эмоционально-оценочный характер. Этот факт обусловливается потребностью носителей языка в экспрессивных средствах выражения.
Семантико-синтаксическая классификация фразеологических единиц основывается на механизмах фразеологизации сочетаний и анализе их прототипов. С этих позиций фраземы подразделяются на: 1) фраземы, реализующие метонимическую модель образования; 2) фраземы, реализующие метафорическую модель образования; 3) фраземы, реализующие компаративную модель образования; 4) фраземы, реализующие модель фразеологических антитез; 5) фраземы, образованные на основе оксюморона; 6) фраземы, реализующие тавтологическую модель образования; 7) фраземы, реализующие плеонастическую модель образования; 8) фраземы, реализующие гиперболические модели образования [1, с. 153-191].
В диалектной фразеологии единичными примерами представлены фраземы, реализующие метонимическую модель образования ( чалая губа «о появлении гнойных ранок на губах»; наблатыканный язык «кто-либо умеет свободно, гладко говорить»; прибежать к холодным ногам «прийти слишком поздно, после чьей-то смерти»), фраземы, образованные на основе оксюморона ( живая смерть «об очень бледном, измождённом человеке»), фраземы, реализующие плеонастическую модель образования ( святый боже «хороший человек»), а также фраземы, образованные на основе тавтологических оборотов ( лето летнинское (летинское) «всё лето»).
Не характерны для фразеологических единиц с компонентами-прилагательными, функционирующих в русских говорах Мордовии, единицы, реализующие модель фразеологических антитез. В то же время фраземы, реализующие гиперболические модели образования, встречаются, хоть и нечасто ( претёмный лодырь «о ленивом человеке»; колесного скрипу бояться «быть трусливым»; вылететь жигулёвской тройкой «стремительно выбежать»).
Наиболее продуктивными для диалектной фразеологии, включающей в себя компонент-прилагательное, оказались фраземы, реализующие метафорическую модель образования ( ненапористая утроба «о жадном на еду, ненасытном человеке»; до упадного листа «до глубокой осени»; с первого звонка «со времени основания»; на широку ногу шагать «жить богато, как следует»; не понимать святой воды «не ценить»; лезть на телеграфный столб «показывать своё превосходство»; найти добрую землю, напасть на добрую землю «напиться до сильного опьянения»; наводить слепых на брёвна «обманывать»; смертной чашей пить «постоянно пьянствовать»; чудить белым светом «совершать неблаговидные поступки»; есть бешеные опёнки «быть в постоянной тревоге, волнении»; гора валит крутая «о чём-либо трудном, тяжёлом, что предстоит сделать, пережить»; хлебать большой ложкой «терпеть лишения, невзгоды»).
Наравне с фраземами, реализующими метафорическую модель образования, широко представлены в рассматриваемых говорах фраземы, включающие в себя компаративные обороты (словно лихой взглянул «у кого-либо начались беды, несчастья»; как ватрыга обрывистая «о полной, неуклюжей женщине; как курица общипанная «с растрёпанным волосами»; как овца кручёная (шутоломная) «словно обезумев, ошалев бегать»; как круговая овца ходить «ходить взад вперёд»; как горячий камень «трудно, тяжело делать что-либо»; как в бездонный ящик кинуть «истратить, тратить впустую, безрассудно»; как за городовой стеной «жить под надёжной защитой»; как куля рогожная, как мазан грязный, как мокрая курица «о неопрятном, неряшливом человеке»; гнуться как сдобный пряник «жеманиться, заставлять себя упрашивать»; как милый свет стать «измениться в лучшую строну»; как бык мирской, как косяшный «крепкий, выносливый, сильный»).
Существует еще ряд классификаций фразеологических единиц, в основу которых положен тот же принцип. И. Е. Аничков предложил разграничивать три типа сочетаний: 1) сочетания, состоящие из одного полнозначного и одного неполнозначного компонентов; 2) сочетания, состоящие из двух полнозначных компонентов; 3) сочетания трех и более полнозначных компонентов [2, с. 105].
Во фразеологии русских говоров Мордовии, включающей в себя компонент-прилагательное, можно выделить и эти типы фразем. К первой группе относятся фраземы со служебными словами, например, как налитой (налитенький) «полный, упитанный»; до останного «до конца»; на прямых «кратчайшим путём»; до больного «до тла» и т.п. Напр.: Чай, он был плохушчый, на чэм токь штаны держались, а шчас стал здоровый, как нылитой. Ф садики-ти их кормют чотыри разь в день, мальчышкь-ть вон там как налитинькый (Суподеевка, Ардатовский район). Филиньвнь, ты некак дь останнывь там была, чово ишшо там слыхать? Загониш их домой, дь останнывь прьторчат (Говорово, Старошайговский район). Нь примых-ть километрьф семь будит (Новые Русские Пошаты, Ельниковский район).
Вторая группа по этой системе дифференцирования будет самой частотной. Сюда можно отнести фразеологизмы: беззубая кандала «о беззубом человеке»; живая смерть «о бледном человеке»; выдра кошиная «о тощей женщине»; стадная пора «время возвращения с пастбища»; ночным бытом «ночью, ночами»; скорым бытом «вскоре»; след великий «очень нужно»; бабушкина пропажа «неожиданно нашлось что-либо»; небылые слова «ложь, клевета»; драная грамота «скандалы, распри, ссоры»; ума ряхнутый «сумасшедший»; пропитая невеста «просватанная девушка» и т.д. Напр.: Надюрка у нас буззубь кондала, у ней двух зубоф нет (Суподеевка, Ардатовский район); Как Иван-ть аплашал, прямь жывая смерть (Летки, Старошайговский район); Ты выдрь кашынья, ни еш што ль ничяво. Пьглиди, нь каво пахожь (Лаврентьево, Темниковский район); Она дь стадной поры в лёсу была (Суподеевка, Ардатовский район); Дочькь-ть вить начьным бытьм ни пайдёт в Ыгнатьвь, проважать ходим (Манаково, Большеигнатовский район). Начьным бытьм зажгут Якьфщину дь убягут (Яковщина, Рузаевский район); Толькь Павль скранила, скорым бытьм ы жана пьмярла (Болотниково, Лямбирский район); След великь хлебь щяс привесть (Сивинь, Краснослободский район); Када пьтиряш чяво, а пасля найдёш, скажыш: «Нашлась бабушкина прапажа». У нас и Люськь вон чистенькь ищит чяво-нибудь, найдёт и гьварит: «Ну, нашлась бабушкина прапажа». Оль, бабушкина прапажа нашлась. -Чяво? - Клубок-ть фчярась день весь искали, а он у миня ф кармани был (Кайбичево, Краснослободский район); У миня спицы куда-ть зъпрьпастились. Ниделю цалу искаль, с нок збильсь, патом фспомниль, шть Маньки их летьм пьвязать даваль. Вот те и бабушкина прапажа (Усыскино, Инсарский район); Ни слушьль бы ни-былыя слава (Гуляево, Ичалковский район); Када в доми дрань грамьть, кака эть жызнь (Жуково, Торбеевский район); Пашла у них дрань грамьть (Хил, Top); Есть у нас старухь адна ума ряхнутья (Русские Полянки, Краснослободский район); Прасватьют иё, нивесту, ана уш тады и прьпитой нивестьй шшытацць (Новые Русские Пошаты, Eльниковский район).
К сочетаниям трех и более полнозначных компонентов И. Е. Аничков относит фразеологические выражения. О них мы говорили выше, рассматривая фразеологические единицы в контексте классификации В. В. Виноградова. Однако формальный числовой показатель компонентного состава представляется не совсем целесообразным применительно к фразеологическим единицам, так как противоречит принципу целостности фраземы.
Как видим, диалектные фраземы, имеющие в своей структуре компонент-прилагательное, образуют достаточно четко очерчиваемую группу слов, внутри которой языковые единицы связаны разными системными отношениями. Структурно-семантический анализ показал, что данные фразеологические единицы подразделяются по степени семантической неразделенности на типы, которые довольно разнообразны. Рассмотренные фраземы отличаются яркой экспрессивностью, оценочностью и имеют особую сферу употребления – они используются только в разговорной речи диалектоносителей. Следовательно, функционирование рассматриваемых единиц с компонентом-прилагательным помогает более глубоко раскрыть менталитет деревенских жителей, образ их мыслей, нравов и норм сельской жизни.
Список литературы Семантическая классификация фразеологических единиц с компонентами-прилагательными в русских говорах Мордовии
- Алефиренко Н. Ф. Фразеология и паремиология: учебное пособие для бакалаврского уровня филологического образования. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 342 с. EDN: SDQJVH
- Аничков И. Е. Труды по языкознанию / сост. и отв. ред. В. П. Недялков; Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед. - СПб.: Наука, 1997. - 509 с.
- Виноградов В. В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1946. - 190 с. EDN: VTGRGZ
- Ершова Н. И., Морозова Г. В. Типы эмоционально окрашенных наименований лиц женского пола в русских говорах Мордовии [Электронный ресурс] // Огарёв-online. - 2017. - № 4. - Режим доступа: http://journal.mrsu.ru/arts/tipy-emocionalno-okrashennyx-naimenovanij-lic-zhenskogo-pola-v-russkix-govorax-mordovii (дата обращения: 01.05.2021). EDN: YNDFPT
- Логинова О. В. Функции компонентов прилагательных в составе фразеологизмов: автореф. дисс. … канд. филол. наук. - Челябинск, 2003. - 28 с. EDN: ZMSBKD
- Словарь русских говоров на территории Республики Мордовия: в 2-х ч. - СПб.: Наука, 2013. - Ч. 1. С. 1-672. - Ч. 2. С. 673-1560.
- Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. - М.: Школа "Языки русской культуры", 1996. - 288 с. EDN: SUMHNJ