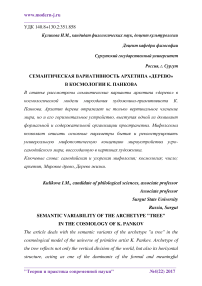Семантическая вариативность архетипа "дерево" в космологии К. Панкова
Автор: Куликова И.М.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 4 (22), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены семантические варианты архетипа «дерево» в космологической модели мироздания художника-примитивиста К. Панкова. Архетип дерева отражает не только вертикальное членение мира, но и его горизонтальное устройство, выступая одной из доминант формальной и содержательной организации пространства. Мифологема позволяет описать основные параметры бытия и реконструировать универсальную мифопоэтическую концепцию мироустройства угро-самодийского мира, воссозданную в картинах художника.
Самодийская и угорская мифология, космология, число, архетип, мировое древо, дерево жизни
Короткий адрес: https://sciup.org/140271309
IDR: 140271309
Текст научной статьи Семантическая вариативность архетипа "дерево" в космологии К. Панкова
Взаимозависимость макрокосма и микрокосма, природы и человека, являющаяся особенностью архаического мышления, во многом определяет мировоззрение коренных народов севера Сибири. Их система взглядов на мир, основанная на первообразах коллективного бессознательного, гармонично соединяет различные первобытные верования, поклонение природе и, в определённой степени, христианские воззрения, как отмечают исследователи этих культур (Н.В. Лукина, З.П. Соколова, А.В. Головнев, Е.И. Ромбандеева, Т.А. Молданова и др.). В этой системе представлений значимое место занимает культ дерева. Особо почитаются крупные деревья, табуирование которых Д. Зеленин относил к проявлениям ранних верований, характерных для примитивных народов [3, с.40, с.67-68]. Природный и мифологический ландшафт Сибири связан с рядом деревьев, среди которых выделяются кедр, сосна, ель. В качестве священного дерева чаще всего почитается лиственница, а в роли Небесного дерева или Мирового древа выступает береза. Д. Зеленин выделял березу как одно из наиболее важных культовых деревьев, в том числе и у некоторых народов Сибири [3, с. 71]. А. Гейштор отмечает, что березу особенно ценили жители не только северо-восточной Руси, но и угро-финские народы [1, с. 202]. У ненцев широко распространен культ березы (Мирового древа) с семью ветвями и семью корнями [5, с. 887].
Архетип дерева в творчестве художника К. Панкова, представляющего культуры самодийцев и угров Западной Сибири, имеет различную символику и смысловую наполненность. Прежде всего она связана с образом Мирового древа, отражающего представления о вертикальной структуре мироздания, наличие которой фиксируется в культурах народов Севера. Как и в других мифологиях, у сибирских народов части Мирового древа соотносимы с тремя мирами - верхним (божественным, ему соответствуют ветви кроны), средним (миром людей, ему соответствует ствол) и нижним (подземным, хтоническим, соотносимым с корнями), связывая их в единое целое [5, с. 886]. Каждая часть дерева имеет свой сакральный смысл: верхняя - сфера добра, нижняя - сфера зла, средняя часть совмещает то и другое. Мировое древо находится в «центре мира», изображается статично и часто в изолированности от человеческого коллектива, отделяя мир космический, организованный от мира хаотического [5, с. 330, 333]. В соответствии с этой символикой изображение изолированно стоящего дерева на картинах К. Панкова можно рассматривать как мифологему Мирового дерева. Оно у художника часто расположено на «природном» берегу, т. е. не связано с миром людей («Синее озеро», «Голубое озеро», «Оленья упряжка»). Оно может иметь три «ветви-ствола» («Охота», «Весна»), что в мифопоэтической традиции чаще рассматривается как символ совершенства [5, с. 333]. Мифологема Мирового дерева у К. Панкова связана и с мотивом первотворения: одинокое крупное дерево стоит на островке (например, в «Синем озере»), что вызывает реминисценции с угорско-самодийским мифом о появлении клочка земли посреди воды и первом, выросшем на нем, дереве. В некоторых случаях такое дерево может стоять и на «людском» берегу («Пейзаж», «Охота»), что предположительно можно интерпретировать как признание земного существования частью космоса, подтверждение взаимосвязи макро- и микрокосма, тем более что рядом с таким деревом изображен вертикально стоящий человек (символ микрокосма). Мировое дерево может дифференцироваться [5, с. 330], т. е. выступать как два дерева, что можно увидеть в картинах «Рыболовецкий поселок» и «Домики рыбачьего поселка». Два крупных дерева, растущих на разных берегах реки, обозначают центры двух миров - природы и человека. Стоящий под одним из деревьев человек символизирует наличие социального мира (микрокосма). Эти образы также связаны с мифом о первотворении: деревья стоят возле воды - одной из фундаментальных стихий мироздания; оба дерева по очертаниям кроны близки к кедру - первому дереву, выросшему на земле после ее сотворения.
Мифологема Мирового дерева связана у художника и с представлением о горизонтальном устройстве мироздания, что наиболее заметно в акварелях «Рыбная ловля» и «Волны». Расположение деревьев отражает «горизонтальную плоскость, определяемую двумя координатами - слева направо и спереди кзади» [5, с. 332]. Изображение животных и человека по разным сторонам от деревьев связано с горизонтальной линией и означает принадлежность к земному («серединному») миру, который является объектом изображения у К. Панкова. Горизонтальная организация пространства поддерживается тем, что изолированно изображенные деревья (одиночные, два или три) в мире К. Панкова дополнены другими достаточно крупными деревьями, которые можно рассматривать как «частные мировые деревья» (В. Топоров). Одновременно в работах К. Панкова представлены несколько небольших деревьев или большое количество мелких деревьев, расположенных на разных берегах реки или озера («Рыбная ловля», «Домики рыбачьего поселка», «Рыболовецкий поселок», «Волны», «Оленья упряжка» и др.). Наличие мелких деревьев на дальней («другой») стороне может быть связано со значениями понятия «лес» в древних мифологиях -«бессмертный», «пустошь», «внешний, далекий», соотносимый с загробным миром [4, с. 136, 140]. Нередко на картинах К. Панкова дано изображение ели («Волны», «Синее озеро», «Голубое озеро»), соотнесение которой у угро-самодийских народов с деревом невидимых духов подчеркивает связь мифологемы дерева с анимистическими представлениями: природа – это мир, где царствуют духи.
Внимание К. Панкова к изображению земного воплощения космического порядка определяет присутствие в его творчестве мифологемы Дерева жизни как инварианта образа Мирового древа. Древо жизни «актуализирует мифологические представления о жизни во всей полноте ее смыслов» и противопоставлено смерти [5, с. 328]. Наиболее соотносима с этими значениями работа «Весна» (1940). На картине перед зрителем – три дерева, стоящих раздельно, но сведенных в единую мировоззренческую и композиционную структуру. Самое крупное дерево, стоящее в центре, состоит из трех стволов-ветвей, что связано с символикой числа «три» (здесь - символ совершенства). Три дерева стоят по разные стороны озерка (два – с одной стороны, третье – на противоположном берегу), символизирующего стихию творения (вода). Цветы, обрамляющие края этого водоема, символизируют начало, возникновение нового этапа жизни [4, с. 383] и одновременно ее «цветение». Слева находится менее крупное дерево, похожее на спаренное, «двойное», что в символике Древа жизни является знаком изобилия, плодородия [5, с. 330]. В самом низу композиции, справа, расположено третье дерево, которое можно рассматривать как символ начинающегося конца, «осени жизни»: оно несколько наклонено вправо, т.е. здесь наблюдается некое «движение» вниз, в отличие от первых двух деревьев, изображенных статично. Расположение деревьев можно интерпретировать как отображение горизонтального устройства мира и как этапы динамического процесса: возникновение (небольшое дерево слева), развитие (самое крупное, «тройное» дерево в центре композиции) и завершение (дерево в нижнем углу картины справа). Тем самым мифологема отражает также связь времен – прошлого, настоящего и будущего [5, с. 330-331], поскольку в мифопоэтическом сознании время существует в единстве своих частей и в любом существующем во времени объекте представлено сразу и целиком. Являясь инвариантом Мирового древа, Дерево жизни выступает и в роли символа вертикального мироустройства. К расположенному в центре композиции крупному дереву летят две птицы (традиционно на вершине Мирового древа находятся священные птицы). В заливчике плавают две утки, которые связывают верхний и нижний миры, а также и средний (соотнесение с мифом о ныряющей гагаре, «создающей» землю). На озере в лодке находится человек с рыбой на удочке. Рыба же в мифологическом сознании является символом нижнего мира [5, с. 331]. Дополнена картина большим количеством мелких деревьев по берегу реки вдалеке слева, что в мифопоэтической символике может быть обозначением мира мертвых [4, с. 134]. Т.о, мифологема Мирового дерева (в том числе его варианты) позволяет описать основные параметры бытия и воссоздать концепцию мира, характерную для мифопоэтического сознания.
Идея космического порядка у К. Панкова воплощается через использование числовой симметрии. В древней мифопоэтической традиции числа несли некое сакральное значение, рассматриваясь в качестве символов Вселенной, Космоса, гармонии и порядка в противовес хаосу, считались неотъемлемыми качествами всех существ и предметов [4, с. 388]. Как правило, у К. Панкова мы видим четное число деревьев: два, четыре, шесть. Например, по два дерева на разных берегах дополнительно к одному крупному изображены в «Охоте»; четыре дерева дополнительно к двум – в «Волнах» и «Рыбной ловле». В «Синем озере» – шесть елей на островке и шесть деревьев на «людском» берегу; шесть заснеженных деревьев изображены в «Охотниках». Эти числа несут определенную символику. Одно из основных значений числа «два» – символическое обозначение Земли и всего земного [4, с. 390]. Оно также связано с бинарными оппозициями (небо-земля, порядок-хаос, жизнь-смерть, природа–человек, мужчина–женщина). Число «четыре» в космологии К. Панкова, с нашей точки зрения, чаще отражает идею статической целостности [5, с. 333], а число «шесть» - жизненной силы [4, с. 391]. Реже используются числа восемь (деревья на переднем плане в работе «Горы играют») и двенадцать (ели на островке в «Голубом озере»). Из нечетных чисел, кроме числа один, связанного с мифологемой Мирового, в мире К. Панкова достаточно часто появляются три дерева («Весна», «Оленья упряжка», «Охотники», «Ловля птиц»). Редко используется число семь (сосны дополнительно к одиноко стоящему на «природном» берегу дереву в «Оленьей упряжке», деревья в работе «Горы играют») и пять («Горы играют»). Ссылаясь на В. Топорова, М. Маковский подчеркивает, что числа являются элементами особого кода, с помощью которого описывается Вселенная, образом мироздания и средством «его периодического восстановления», что набор «числовых констант» упорядочивает космический мир [4, с. 388]. Действительно, с помощью числовой символики К. Панков выстраивает модель мироздания, дешифровка которого раскрывает особенности древнего мифологического миропонимания. Такой дешифровке поддается любое произведение К. Панкова.
В качестве примера можно взять работу художника «Пейзаж». Мы видим здесь изображение изолированно стоящего одного дерева, трех деревьев на дальнем плане, четырех кедров на горизонте, шести елей на «природном» берегу. Число «один» в мифопоэтической традиции имеет несколько значений. Среди них к космологии К. Панкова имеют отношение значения символ Вселенной, Мировое Древо, символ микрокосма (вертикально стоящий человек), красоты, творческого начала [4, с. 390]. Число «три» выступает символом Мирового разума, гармонии микро- и макромиров, символом абсолютного совершенства и любого динамического процесса [4, с. 390; 5, с. 333]. Число «четыре» в данном случае символизирует универсальность мироздания; число «шесть» может быть связано с символом сотворения Вселенной [4, с. 391]. Безусловно, «шесть» можно рассматривать как комбинации чисел: 2+2+2 (сочетание бинарных оппозиций), (2+1)+(1+2) (размножение), 3+3 (прогресс) [4, с. 389]. Таким образом, использование числовых констант (особенно четного числа) в изображении мира вводит в него меру, организацию, отражает гармонию и порядок космологизированного пространства.
Кратко резюмируя проведенные наблюдения, отметим следующее. Архетип дерева (Мировое древо, Дерево жизни, лес, кедр, ель, сосна) в творчестве К. Панкова воссоздает структуру этнической модели мира, которая представлена в виде системы композиционно связанных образов-инвариантов, отражающих единство составных частей мироздания. Мифологема дерева в космологической модели К. Панкова отражает не только вертикальное, традиционно трехчастное членение мира, но и его горизонтальное устройство, выступая одной из доминант формальной и содержательной организации пространства. Бинарная оппозиция «порядок-хаос» в контексте мифологемы «дерево» отражает идею динамического развития, в процессе которого происходит установление «космического порядка». При этом материальный мир обретает целостность, иерархичность, четкую пространственную структуру, становится сакрализованным. Мифологема дерева позволяет описать основные параметры бытия и реконструировать универсальную мифопоэтическую концепцию мироустройства угро-самодийского мира, воссозданную в картинах К. Панкова. Первый исследователь его творчества Г. Гор подчеркивал, что «Константин Панков не отделяет себя от мира ни в своей живописи, ни в своем повседневном ощущении и понимании окружающего. Его панно и акварели – такой же ориентир в пространстве, как и его мысль, его слово, его жест» [2, с. 22]. Творчество К. Панкова подтверждает тезис о том, что архаические представления присутствуют в современном художественном сознании и могут служить материалом для создания оригинальных концепций, образов, стилей.
Список литературы Семантическая вариативность архетипа "дерево" в космологии К. Панкова
- Гейштор А. Мифология славян / пер. с польск. - М.: Весь мир, 2014. - 382 с.
- Гор Г.С. Ненецкий художник К. Панков. - Л.: Советский художник, 1968. - 71 с.
- Зеленин Д. К. Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов. - М.-Л.: Изд-во АН, 1937. - 80 с.
- Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. - М.: ВЛАДОС, 1996. - 416 с.
- Мифы народов мира: Энциклопедия. Электронное издание / гл. ред. С. А. Токарев. М., 2008. 1147 c. [Электронный ресурс] URL: http://www.indostan.ru/biblioteka/knigi/2730/3412_1_o.pdf (дата обращения: 21.03.2017).