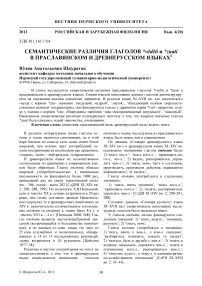Семантические различия глаголов *vede ti и *zna ti в праславянском и древнерусском языках
Автор: Шкураток Юлия Анатольевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 (20), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются семантические различия праславянских глаголов *vědě ti и *zna ti в праславянском и древнерусском языках. Семантическое наполнение данных глаголов реконструируется на основании анализа семантики дериватов. В русском языке XI–XVII вв. для лексического гнезда с корнем * zna - значения ‘сведущий, мудрый’, ‘знаток’, ‘обладающий особым сверхъестественным знанием’ нехарактерны, они фиксируются только у дериватов корня * v ě d -, напротив, только у единиц с корнем * zna - обнаружены значения ‘знак (воспринимаемый визуально)’, ‘знакомый’. Выявленные семантические различия подтверждают гипотезу о том, что ядерное значение глагола *zna ti было связано с идеей знакомства, опознавания.
Семантика, праславянский язык, древнерусский язык, ведать, знать, знать (to know), ведать (to wit)
Короткий адрес: https://sciup.org/14729174
IDR: 14729174 | УДК: 811.161.1’04
Текст научной статьи Семантические различия глаголов *vede ti и *zna ti в праславянском и древнерусском языках
В русском литературном языке глаголы ве- вѣдѣти и знати, наследуемое из праславянского дать и знать являются синонимами, но в этой паре близких по смыслу слов знать имеет более широкий, чем ведать, круг употреблений; ведать воспринимается носителями как архаичное, «старое», знать – нейтральное, «современное».
В древнерусском языке их количественное соотношение по сравнению с современным языком было обратным. Глагол вѣдѣти обладал широкой употребительностью: в памятниках письменности он фиксируется более 1000 раз, пришедший ему на смену тематический вѣда-ти – 306, знати – всего 202 [СлДРЯ XI–XIV вв. 2: 290, 288, 399]. По подсчетам А.В.Птенцовой, если в текстах XX в. ведать встречается в 20 раз реже, чем знать (согласно данным Национального корпуса), то в древнерусских памятниках до XIV в. включительно количественное соотношение вѣдѣти (и вѣдати ) к знати было 8 к 1, в текстах XVI в. – 4 к 1 [Птенцова 2008: 268]. Глагол вѣдѣти является частоупотребляемой лексемой (встречающейся в большинстве памятников), и по данным ст.-слав. языка это одно из 25 слов (служебных и полнозначных), обнаруженных в 14 из 15 исследованных рукописей; знати встречается в 10 рукописях [Цейтлин 1977: 38].
Различия в частоте употребления не могут не свидетельствовать о том, что в древнерусском языке семантическое наполнение глаголов языка, было иным, чем в современном.
По данным «Словаря древнерусского языка XI–XIV вв.» в древнерусском языке XI–XIV вв. основными значениями глагола вѣдѣти были: 1) ‘знать что-л.’, ‘знать кого-л.’, ‘признавать ко-го-л., что-л.’; 2) ‘ведать, распоряжаться, управлять чем-л.’; 3) ‘знать, мочь, быть в состоянии, производить, произвести действие, выраженное инфинитивом’; 4) ‘видеть’.
Глагол вѣдати употреблялся в следующих значениях:
-
1) ‘знать, иметь сведения’, ‘знать кого-л.’, ‘признавать кого-л.’; 2) ‘ведать, распоряжаться, управлять чем-л.’ [СлДЯ XI–XIV вв. 2: 290–291, 288].
Согласно данным «Словаря русского языка XI–XVII вв.» семантическое наполнение исследуемых глаголов было несколько иным.
У глагола вѣдѣти , вѣсти фиксируются следующие значения: 1) ‘знать, ведать’, ‘понимать, разуметь’; 2) ‘уметь, мочь’.
Глагол вѣдати употреблялся в значениях: 1) ‘знать, иметь о чем-л., о ком-л. сведения’, ‘разбираться, понимать; владеть (о языке)’; 2) ‘знаться, быть в дружбе с кем-л.’; 3) ‘иметь в ведении; заведовать, управлять чем-л.’, ‘иметь в подчинении кого-л., распоряжаться кем-л.’; 4) ‘относить куда-л., к чему-л. в административно-хозяйственном отношении’ [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 43–44].
В «Словаре древнерусского языка XI–XIV вв.» у глагола знати выделено три основных значения:
-
1) ‘знать кого-л., что-л.; иметь сведения, представления о ком-л., чем-л.’, ‘различать, выделять что-л.’, ‘быть знакомым с кем-л.’, ‘узнавать, опознавать’; 2) ‘признавать, положительно относиться к кому-л.’, ‘исполнять что-л., быть обученным чему-л.’; 3) ‘иметь половую связь с кем-л.’ [СлДЯ XI–XIV вв. 2: 399–400].
В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» их отмечено уже восемь:
-
1) ‘знать, иметь сведения, знания, представление о чем-л.’; 2) ‘уметь что-л. делать, быть обученным чему-л.’; 3) ‘знать человека, быть знакомым с ним’; 4) ‘узнать, отличить’, ‘опознать’; 5) ‘признавать (признать)’; 6) ‘ведать, распоряжаться, владеть чем-л.’, ‘иметь что-л. в числе обязанностей, исполнять что-л.’, ‘иметь дело ко-му-л. с кем-л.’; 7) ‘быть подведомственным ко-му-л., чему-л.’; 8) ‘иметь что-л.’, ‘иметь в качестве супруги (супруга)’ [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 49– 50].
Очевидно, что, руководствуясь только данными словарей, сделать точные выводы о том, какие принципиальные различия в древнерусском языке были между глаголами вѣдѣти и знати , какие значения составляли их семантическое ядро и периферию, невозможно.
С этимологической точки зрения в первом из исследуемых глаголов вычленяется праславян-ский корень * věd -: (ст.-слав. вѣдѣти , вѣмь , др.-русск. вѣдѣти , вѣдати , вѣсти , вѣмь , блр. ве́даць , укр. вíдати , польск. wiedzieć , чеш. věděti , слвц. vedet’ , в.-луж. wědźeć , н.-луж. wěźeć ‘знать’, словен. védeti , болг. вестя́ , макед. вести , сербо-хорв. ве́стити ), который является продолжением и.-е. * u̯ eid-/ * u̯ oid- /* u̯ id- ‘видеть, знать’. Корень * u̯ eid-/*u̯ oid- широко представлен в языках и.-е. семьи: др.-инд . vetti, vidmási vidánti ‘знать’ (где формы презенса изменились под влиянием перфекта), vēdate, vidáti (с тем же значением), vindáti ( vétti, vitté ) ‘находить’, арм. egit ‘он нашел’, греч. ε ἴ δομαι ‘кажусь’, ο ἶ δα ‘я знаю’, кельт. vindo -‘знать’, лат. videō , -ēre ‘видеть’ (от основы * u(e)idē -, ср. праслав. viděti , лит. pavydéti , гот. witan, -aida ‘наблюдать’) и др. [Фасмер I: 283; Шанский 3: 35; Преображенский I: 106–107; ЕСУМ 1: 391; Rudnickyj 1: 413; ЭСБМ 2: 80; Ma-chek: 680–681; БЕР 1: 137; Schuster-Šews: 1587; Brükner: 615; Pokorny: 1125–1127].
Значение ‘знать’ появляется у перфекта глагола со значением ‘видеть’: vědě < *u̯ oid-h2ei̯ -, в дальнейшем инфинитив приобретает суффикс глаголов состояния -ě- [LIV: 667]. На славянской почве и.-е. корень *u̯ eid-/*u̯ oid- дает соответ- ственно *viděti и *věděti. В последующие периоды развития русского языка семантическая связь между глаголами сохраняется: глагол вѣдѣти мог употребляться в значении ‘видеть’: внезапу вскочи левъ страшенъ в гра(д) и вси вѣдѣвше разбѣгоша(с). ПрЮр.2 XIV в. [СлДЯ XI–XIV вв. 2: 290].
Глагол знать восходит к и.-е. корню *ģen-, *ģenǝ-, *ģnē-, *ģnō- ‘знать, узнавать’ и родствен др.-инд. jānā́mi ‘я знаю’, гот. kunnan ‘знать’, лит. žinóti ‘знать’, тохар. knā- ‘знать, узнавать’ и др. [Pokorny: 376 и сл.].
Несмотря на огромное количество работ по реконструкции и.-е. языка и этимологии отдельных слов, некоторые вопросы, касающиеся древнейшей семантики и.-е. корня *ģen- ‘знать’, до сих пор не получили ответа. Один из них – связаны ли генетически реконструируемые для и.-е. языка два омонимичных корня: *ģen-¹, *ģenǝ-, *ģnē-, *ģnō- ‘рождать(ся)’ и *ģen-², *ģenǝ-, *ģnē-, *ģnō- ‘знать’? Совпадение форм не может не навести на мысль об их генетическом родстве, однако ряд лингвистов считают эти корни случайными омонимами [Pokorny: 373–376; Machek: 586–587 и др.].
Вопрос этимологии и древнейшей семантики корня *ģen- ‘знать’ подробно рассмотрен в статье О.Н.Трубачева. Попытки связать отношениями семантической производности *ģen- ‘знать’ и *ģen- ‘род, рождаться’ предпринимались неоднократно. К.К.Уленбек предполагает общее древнейшее значение ‘мочь, быть в состоянии’. Г.Гюнтерт видит единую основу, исходя при этом из следующих рассуждений: греч. γóνυ ‘колено’ и γενος ‘подбородок’ имеют древнее значение ‘угол, изгиб’, от которого и образовано вторичное значение ‘род’. Вслед за Д.Томпсоном А.В.Исаченко обращает внимание на близость понятий «знак», «имя», «родство, род, родить» и высказывает следующее предположение: древнейшим значением и.-е. корня *ģen- является ‘знаю по родовому знаку’. Таким образом, *ģen- ‘рождать(ся)’ > ‘знать, отличать, узнавать’ (своих сородичей по родовому знаку) [см.: Трубачев 1957: 90–91].
О.Н.Трубачев убежден, что эти два корня являются связанными генетически: значение ‘знать’ и все близкие вторичные значения, включая и значение ‘родовой знак’, происходят от значения ‘род, рождаться’, но версию А.В.Иса-ченко считает необоснованной, так как мысль о первичности значения ‘родовой знак’ ничем не поддерживается. Напротив, в ряде случаев значение ‘знак’ производно от основы со сложившимся значением ‘знать’, как, например, слав. znakъ < znati, поэтому значения ‘рождаться, быть в родстве’ и ‘знать’ должны быть связаны непосредственно, а не через значение ‘знать по родовому знаку’.
Сравнивая и.-е. корни с близкими значениями *ģen- и * u̯ oid- (слав. *znati и *věděti ), О.Н.Трубачев высказывает мысль о том, что в древности эти корни не были синонимичными и имели разграниченные сферы употребления: по-гречески в выражениях «знать человека» можно использовать только глагол γιγνώσκω, содержащий и.-е. корень *ģnō- , второй глагол – οἶδα, являющийся продолжением и.-е. * u̯ oid- , имеет «вещное» значение ‘знать (что)’. Это же разграничение сохраняется и в современном немецком языке, где глагол wissen используется только в «вещном» значении, а kennen употребляется в словосочетаниях, аналогичных греческому: Ich kenne den Menchen – «Я знаю этого человека». В некоторых славянских языках сохранились индоевропейские сферы употребления этих глаголов: польск. znam tego człowieka , но wiem co mię czeka , чешск. znám tého člověka , но vím, co mě čeká . Таким образом, по мысли О.Н.Трубачева, и.-е. корень *ģen-, *ģenǝ-, *ģnē-, *ģnō- употреблялся исконно только в сочетаниях типа «знаю человека», что подтверждает генетическую связь между *ģen- ‘рождаться’ и *ģen- ‘знать’. Развитие значений происходило следующим образом: *ģen- ‘рождаться’ > ‘быть родственным, единокровным (человеку)’ > ‘знать (человека)’. Корень * u̯ oid- ‘знать’, связанный с * u̯ eid- ‘видеть’, имел значение ‘знать (вещь)’ [Трубачев 1957: 90–92].
Гипотеза О.Н.Трубачева была подвергнута критике А.Ф.Журавлевым: он считает, что знать обозначает врожденное, родовое знание, в то время как древнейшее значение ведать не столько ‘знать (вещь)’, сколько ‘знать о событии’ производно от значения ‘быть свидетелем’: ‘я видел’ значит ‘я знаю’ [Журавлев 1999: 24–25].
Оригинальную точку зрения на проблему древнейшей семантики глаголов знать и ведать высказывает в статье «Из индоевропейской этимологии» В.Н.Топоров. Он отмечает близость в древних культурах и фольклоре двух идей – «знания» и «рождения», с одной стороны: глагол знать и его производные часто используются в связи с мотивами соития – зачатия – рождения: например, познать жену; с другой стороны, «родить» часто используется для обозначения процесса производства нового знания. На этих аналогиях физического и духовного строится модель, где «*ģen- обозначал раз-драние (прорыв) безразлично-инертного <…> природного пространства, где нет ни знака, ни знамения, ни знания <…> в новое пространство – знаковое» [Топоров 1994: 149]. Напротив, «*u̯ eid-знание по своей сути эмпирично, пассивно, лишено творческого начала. Его принцип – увидел (*u̯ īd-) → узнал (*u̯ oid-) и как бы – так и остался с этим видением-ведением без всякого прибытка» [там же: 154].
Несколько точек зрения, высказанных отечественными учеными, объединены идеей противопоставленности корней *věd- и *zna- по принадлежности знания к человеческой или божественной сфере. По мысли Т.И.Вендиной, в старославянском языке по-разному передавались понятия знания профанного и сакрального: «Знание, которым мог обладать человек, – это скорее чувственное знание. Оно передавалось глаголами видѣти , знати , оумѣти и их производными <…>. Сверхчувственное, божественное знание связывалось, по-видимому, с глаголами в корнем вѣд- , так как только они имеют значение ‘предвидеть, предугадать’, дар, который не был дан человеку» [Вендина 2002: 148–149].
А.А.Гиппиус считает, что «обозначением сокровенного знания в церковнославянском, как и в языке волхвов, служит глагол вѣдѣти и его производные. <…> Против трактовки знати и вѣдѣти как прямого семантического продолжения и.-е. *ģnō- и *u̯ eid- однозначно свидетельствует тот факт, что в старославянских памятниках греч. γιγνώσκω, γνώσισ как обозначение божественного знания чаще всего передаются производными от корня вѣд- <…>. Статус церковнославянского вѣдѣти как обозначения сакрального знания ярко отражает употребление этого глагола в качестве названия буквы славянского алфавита» [цит. по: Птенцова 2008: 265– 266].
Б.А.Успенский пишет по проблеме семантических различий глаголов знати и вѣдѣти следующее: «Различие между подлинной (высшей) и лишь эмпирически наблюдаемой реальностью – между объективным знанием и субъективным видением находит отражение в семантическом противопоставлении <...> знати – вѣдѣти – первый член <…> пары соотносится с подлинным (объективным) знанием; второй же – со знанием очевидца» [Успенский 1983: 49].
Ю.С.Степанов в книге «Константы. Словарь русской культуры» полагает, что семантические различия ведать и знать лежат в сфере разграничения сакрального и профанного знания, но трактует их противоположным образом: «В индоевропейской культуре исконно различаются дв а вида знания, выражающиеся двумя различными корнями: 1) корень *u̯ eid-/*u̯ id-означает знание земное, человеческое; знание о мире, окружающем человека, доступное органам чувств, зрению и слуху; знание, могущее быть передаваемым от человека к человеку, могущее быть истинным или ложным; 2) корень *ģnō-означает знание высшее, божественное; знание о высшем мире, недоступное органам чувств, но доступное разуму; знание, открываемое богами человеку помимо его органов чувств; знание вневременное, вечное, всегда истинное <…>. Знание, выраженное посредством корня зна-, относится к высшей сфере, к ”мудрости”; поэтому знахарь означает “знающий человек”, “лекарь”, “добрый человек”. Напротив, знание-ведение от корня вѣд- относится к земной, бытовой сфере. В Новгородских берестяных грамотах, содержание которых – быт и повседневная жизнь, почти никогда не употребляется знать, только – вѣдать. В отличие от знахарь, – вѣдунъ, ведун, ведьма – “злые колдуны”» [Степанов 1997: 344– 345].
Сразу стоит отметить, что последнее высказывание Ю.С.Степанова верно лишь отчасти. В современном литературном языке знахарь – «целитель, врачеватель», а ведьма – «злая колдунья», но для говоров, отражающих архаичный взгляд носителя традиционной культуры, эта оппозиция не свойственна. Как правило, слова с корнем зна- в диалектной речи не используются для номинации костоправов, бабушек-травниц, т.е. лекарей, не прибегающих к магическим способам воздействия. Об этом говорят и информанты: Он не знатливый, а он лекарь, он только лечит [КСРГСПК]. В говорах знахарь – это человек, обладающий сверхъестественным знанием-силой, колдун, который может как насылать порчу на человека, так и лечить магическими приемами. Значение ‘лекарь’, ‘добрый колдун’ нехарактерно и для ранних фиксаций слова знахарь ( знахорь ) в памятниках. В то же время слово ведун , в отличие от ведьмы , в говорах не обладает только значением ‘злой колдун’, например, в пермских говорах оно используется в двух значениях: ‘человек знающий, сведущий, обладающий определенными познаниями, жизненным опытом’, ‘знахарь’ [СПГ 1: 80].
Проведенный анализ употребления в современных русских говорах глаголов семантического класса ‘знать’ позволяет утверждать, что оппозиция «сакральность – профанность» знания на уровне языкового выражения себя не проявляет. Например, глагол знать используется и для знаний, связанных со сферой божественного: У нас Веденеюшка – богомол, дак она всё знат [КАС], и сверхъестественных колдовских знаний: У дьявола, говорят, рот широкий. Чтоб колдовство взять, надо туда лезть. Пройдёшь там – всё будешь знать. А какой он, дьявол, никто не знает, в человечьем или скотском виде
[КМЛПК], и знаний обыденных: Она така про-шледь, про всех всё знат [СПГ 2: 241], что вынуждает усомниться в закрепленности профанного и сакрального знания за различными глаголами в древнерусском языке.
Пристального внимания, на наш взгляд, заслуживают работы А.В.Птенцовой [Птенцова 2006, 2008], выполненные на обширном материале памятников. По ее мнению, глагол вѣдати семантически не отличался от нетематического варианта вѣдѣти ; семантических различий, обусловленных жанровой принадлежностью текста, выявлено не было [Птенцова 2008: 268].
Согласно результатам исследования в древнерусский период (по XIV в. включительно) современные синонимичные глаголы ведать и знать представляли собой четкую семантическую оппозицию, нейтрализуясь лишь в ограниченных контекстах. Глагол знати указывал на знакомство с внешними признаками объекта и, как следствие, на способность опознать этот объект: яко же бо аще къто не зная того. ти видя-ше и въ такои одежи суща. то не мьняаше того самого суща блаженааго игумена . ЖФП – «Потому что если кто-нибудь не знал его, то, видя его в такой одежде, не думали, что это сам блаженный игумен». В древнерусском языке глагол знати имел значение ‘узнать кого/что, опознать’ (при этом речь не всегда шла именно о человеке) и присоединял предметную лексику.
Глагол вѣдѣти (вѣдати) в большинстве случаев указывал на знание некоторой ситуации и подчинял пропозицию, выраженную самостоятельной предикативной единицей: вижь съкру-шение срдца моего бо закалаемъ есмь не вѣмь чьто ради . Сказ. и страсть. УС – «Увидь сокрушение сердца моего, приношусь в жертву не знаю, ради чего». Пропозиция может быть выражена не только предикативной единицей, но и оборотом accusativus duplex, вин. пад. (род. при отрицании) абстрактных существительных, имеющих валентность содержания знания. В древнерусском языке глагол вѣдѣти способен употребляться абсолютивно, без заполнения валентностей; кроме того, он используется в контекстах, где речь идет о вере, – последнее значение является зоной семантической нейтрализации глаголов вѣдѣти и знати [там же: 268–272].
В текстах XVI в. семантическая область употребления глагола знати расширяется: он оказывается способным подчинять пропозицию, что ранее было возможно только для вѣдѣти. Что касается второго глагола, то в XVI в. он может употребляться в значении ‘уметь’ и присоединяет инфинитив, однако принципиальное семантическое различие между глаголами продолжает сохраняться. Данные современных индоевропейских языков подтверждают результаты, полученные при анализе древнерусских памятников: «только один из глаголов знания способен передавать значение ‘быть знакомым’ и почти всегда именно он может выражать значение ‘испытывать’, при этом только второй член оппозиции может означать ‘уметь’, ‘мочь’. Что же касается способности присоединять пропозицию, то она существует только (как в немецком) или преимущественно (как в романских языках) у этого второго глагола» [Птенцова 2008: 275]. Именно эта оппозиция и была первоначальной в и.-е. языке, идея сакральности–профанности знания, по мнению исследователя, не служит основной для противопоставления глаголов знати – вѣдѣти в памятниках.
Подтвердить или опровергнуть представленные гипотезы, а также восстановить первичные связи корня возможно, сопоставив семантику производных слов: различие двух корней, если таковое было, должно сохраняться в семантике дериватов.
Проанализируем значения бесприставочных дериватов с корнями *věd- и *zna- в языке XI– XVII вв., например, сопоставим семантическое наполнение прилаг. вѣдомый и знаемый . По данным «Словаря русского языка XI–XVII вв.» лексема вѣдомый имеет значение ‘пользующийся известностью; тот (то), о ком (чем) осведомлены; тот, кто осведомлен’: Не видиши ли како творять рыбари яко не вьсѣхъ мѣстъ морь-скыихъ обьходять нъ въ мѣсто вѣдомо къде вѣдять рыбы съвъкупяща ся. Усп. сб. XII–XIII в. В значении сказуемого сочетание быти вѣдо-мымъ означало: а) ‘быть известным’, б) ‘быть наученным, знающим в какой-л. области’, в) ‘быть осведомленным’, г) ‘быть, находиться в ведении, подчинении’, д) ‘быть отнесенным ку-да-л., к чему-л. в административнохозяйственном отношении’ [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 42]. Близкая семантика присуща слову вѣдимый , которое имеет два значения: 1) ‘подлежащий ведению’, 2) ‘известный’ [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 46].
Прилаг. знаемый зафиксировано в следующих значениях: 1) ‘известный кому-л.’: И глаго-лати сице: былъ есми не во знаеме мѣсте до-селѣ, идѣже мя мучаху. Ж.Герас. Б. XVII в. (XVI в.), ‘знакомый’; 2) в знач. сущ. ‘знакомый’: (П)аче вьсякого чь(р)но(ризь)ца не тьшти ся ми-нути бес поклонения (а)ште бо знаемымъ тъкъмо покланяеш(и)ся и чьстиши я. Изб. Св. 1076 г., ‘близкий, домочадец’; 3) ‘знающий, разумный; содержащий знания’: Въ начело сътво-ри бъ нбо и землю бжию дѣло всему сие книгы корень сутъ и источникъ и сила въ твари сеи знаемѣи. Шестоднев Ио. екз. 1263 г. [СлРЯ XI– XVII вв. 6: 38].
Довольно близки по значению прилаг. знамый ‘известный, знакомый, близкий кому-л.’; знанный ‘знакомый’; знакомый : [Литвин] де сказался, что онъ знаком цесарскому послу. АМГ. 1632 г. [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 40–48].
Сопоставляя два примера, иллюстрирующий первое значение прилаг. вѣдомый – мѣсто вѣдомо и иллюстрирующий первое значение прилаг. знаемый – не во знаеме мѣсте доселѣ , мы можем сделать вывод об очевидных смысловых различиях этих дериватов: в первом случае это место, о котором что-либо известно, а во втором – место, которое было (не) знакомо. Смысловой доминантой прилаг. вѣдомый является следующее: ‘тот, о ком что-либо известно, или тот, кто обладает какими-либо сведениями, знающий’, а для прилаг. знаемый – ‘знакомый’ (кроме примера из Шестоднева, это употребление может быть объяснено переводным характером текста).
Семантическая оппозиция сохраняется и во вторичных дериватах: прилаг. вѣдомый образует сущ. вѣдомство со значением ‘ведомство, круг ведения’, ‘весть, известие, сообщение’ [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 48], а прилаг. знаемый – сущ. знаемство со значением ‘место, где человека хорошо знают’: Иереи аще прѣидет от своего знаемства въ ину земля. Громник. XV в. [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 38].
Судя по примеру из «Слова о полку Игореве», существовала и зона семантической нейтрализации прилаг. вѣдомый и знаемый : И рече ему (Игорю) Буи Туръ Всеволодъ: ... а мои ти Куряни свѣдоми къмети: подъ трубами повити, подъ шеломы възлелѣяны, конець копія въскръмлени, пути имь вѣдоми, яругы имъ знаеми... [СОПИ: 55].
Проанализируем семантическое наполнение других прилаг. с корнем *věd- : вѣгласъ фиксируется в значении ‘опытный, знающий’: Аще корм-чии вѣгласъ есть и хитръ обращяти корабль во время бури. Корм.; отсюда вѣгласие ‘опытность, знание’; вѣгласьство ‘опытность, навык’ [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 42–43];
вѣгодый подается в значении ‘разумный, сведущий’: Вѣгодый [вар. хытрии ] убо игуменъ не оставить язвьну ученику, язвьна же бывша, ис-цѣлить скоро . ВМЧ. XVI в. (XI в.) [СлРЯ XI– XVII вв. 2: 43]. Обращает на себя внимание, что и вѣгласъ , и вѣгодый синонимичны прилаг. хитрый ;
вѣдивый ‘знающий’ иллюстрируется примером: Ияковъ же учя глааше, кто пр<е>м<у>дръ и вѣдивъ въ васъ, да явить отъ добра жития дѣла своя въ кротости мудростьнѣ. Панд. Ант. XI в. [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 46]. В данном случае синонимом прилаг. вѣдивый является премудрый;
вѣжий подается как ‘знающий, обученный’: вси корабленицы гребцы же вѣжи плаванию. Козма Инд. XVI в. (XIV–XVI вв.) [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 52];
вѣжливый имеет несколько значений: ‘разумный, мудрый’ (1620 г.), ‘учтивый’, ‘смирный, послушный (о собаке)’ [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 52];
вѣщий имеет ряд значений, исходное – ‘сведущий, мудрый’ [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 52];
вѣдомный трактуется как ‘извещающий, осведомительный’: И что твоихъ рѣчей, все намъ вѣдомо учинилося; и вѣдомной посолъ твой, что ты съ нимъ и изъ устъ приказалъ, все говорилъ. Крым. д. 1500 г. [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 46];
вѣстимый имеет значение ‘известный’: То велие чюдо намъ не вестимо, а ведомо то велие чюдо Даниле пророку . Сл. о ц. Мих. XVII в. [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 52];
вѣдный употребляется только в составе устойчивого словосочетания древо вѣдное ‘древо познания’ [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 46].
Перечень этих прилагательных свидетельствует, что в языке XI–XVII вв. обнаруживается множество дериватов со значением ‘знающий, сведущий’, образованных от корня *věd- . Синонимичные дериваты с корнем *zna- впервые появляются только во 2-й пол. XVII в., когда фиксируется прилаг. знающий , которое хотя и трактуется как ‘знающий, располагающий знаниями’, но приведенные контексты позволяют его конкретизировать и определить как ‘знающий (дело)’: А сами бъ они сидѣльцы [исконных рядов в Москве] тому делу были люди знающие, чтобъ впредь у нихъ въ рядѣхъ исконного художества неистоваго писма не было. Заб. Ик. 1667 г.; У Архангельского города есть многие знающие люди, которые карабельное воженье знаютъ. ДАИ VI. 1671 г. [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 52].
Для прилагательных с корнем *zna- характерен преимущественно иной круг употреблений. Прилаг. знатный3 фиксируется в русском языке XI–XVII вв. в следующих значениях: 1) ‘известный, знакомый по опыту’: Он Ивашко издѣтска въскормлен въ мнстрѣ и службы мнстырские ему всѣ знатны и он Ивашко у товарищев своих вожь был. А. Свир. м. 1672 г., ‘знакомый кому-л. (о человеке)’; 2) ‘пользующийся известностью, славой, авторитетом’; 3) ‘знатный’; 4) ‘значительный, крупный’: Тѣ [крысы] знатный вредъ земледѣлникомъ творятъ. Х. Рад. 1628 г.; 5) ‘ясный, четкий; хорошо [видный]’: А которые межи заросли и грани вывалились и тѣ межи и грани поновить, чтобъ были знатныя и впредь прочны. А. Уст. 1695 г., ‘различимый, отличный’ [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 51].
Наличие значений ‘знакомый’, ‘значительный, крупный’, ‘ясный, четкий; хорошо [видимый]’ у дериватов с корнем *zna- хорошо согласуется с выводами А.В.Птенцовой о том, что семантика глагола знати в древнерусском языке была связана с идеей визуального знакомства и опознавания.
В языке XI–XVII вв. заметны семантические различия и между существительными со значением nomina agentis, образованными от корней *věd- и *zna- .
С корнем *věd- фиксируются:
вѣдалецъ ‘опытный, знающий человек’: Бѣ мужъ искусень и прозритель и старець и всему вѣдалѣць . Евфр. Отразит. пис. 1641 г. [СлРЯ XI– XVII вв. 2: 43];
вѣдий ‘знающий человек; тот, кто сведущ в чем-л.’: [Князь Святослав] повелѣ мнѣ немудру вѣдию прѣмѣну сътворити рѣчи инако . Изб. Св. 1073 г. [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 46];
вѣдецъ ‘знающий человек; тот, кто сведущ в чем-л.’: Ты бо единъ вѣси рѣшити окованныа и ицѣлити безвѣстныа язвы, яже ты единъ съвѣси, таинныхъ вѣдець сы<и> . ВМЧ. XVI в. (XI в.) [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 46];
вѣдокъ ‘знаток’: Всякого писания вѣдока . Георг. Ам. 1389 г. [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 46];
вѣдомецъ ‘знаток’: Покайся и исповѣждься искусному мужу… во учении и в правилѣхъ вѣдомцу и хитрѣцу . Евфр. Отразит. пис. 1691 г. [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 47];
вѣжа ‘знающий, обученный чему-л. человек’: Всѣмъ же вѣрнымъ крестьяномъ, вѣжамъ и невѣжамъ, попомъ и простьцемъ, держати постъ (Поуч. правой веры). Пон. XIV в. [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 51].
С корнем *zna- , соответственно, фиксируются следующие дериваты:
знатецъ 1) ‘знающий человек, знаток’: Пи-салъ князь Курлянской о 2 мастерахъ – одинъ мѣдной плавилщикъ, а другой рудной знатецъ, просятъ до 12 рублевъ на мѣсяцъ каждой. Док. моск. театра. 1672 г.; 2) ‘тот, кто знает кого-л., хорошо осведомлен о чем-л. как очевидец, свидетель’: И староста Моисеи спросил у Лукияна Федорова хто у тобя знатцы на твою чищеницу и Лукиян сказал у меня де знатцы Онтонь Логинов да Ефтефеи Гаврилов. А. Свир. м. 1655 г. [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 48–49];
знатникъ ‘тот, кто знает кого-л., хорошо осведомлен о чем-л. как очевидец, свидетель’: А порознь про селцо, и про деревню, и про пусто- ши, про пашню и про сѣно и про всякие угодья роспросити было некого, старожилцовъ и знат-никовъ тутошнихъ и стороннихъ людей нѣтъ. Кн. п. Моск. XVI в. [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 50–51];
знатокъ ‘тот, кто знает кого-л., хорошо осведомлен о чем-л. как очевидец, свидетель’: А что ты, блгодатель мои про бѣглых нашихъ крстьян писал, чтоб прислать знат<о>ка и будет по зимнему пути крстьяня твои к тебѣ поѣдут. Грамотки. 1662 г. [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 52];
знахарь (знахорь) : 1) ‘знающий (местность, дело) человек’ (1480 г.): И знахори ведяху его [Ахмата] къ Угрѣ рѣцѣ на броды. Воскр. лет., Посла бо…слугъ своих корабли и корабленици и знахори морскиа . Библ. Генн. 1499 г.; 2) ‘тот, кто выступает в качестве свидетеля при земельных спорах’: Приказалъ государь… про тѣ рубежи, которые рубежи въ пословѣ памяти писаны по-рубежныхъ знахарей выпросити и по чертежу росписати. Польск. д. 1570 г.; 3) ‘знахарь, лекарь’: 2 места пустых Степашка знахоря, да 4 места пусты Степанка кавтанника, да Лашу-ка красильника (1583 г.) [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 52].
Таким образом, для производных с корнем *zna- в роли nomina agentis характерны два круга употреблений: первый связан со знанием какого-либо дела, второй - со способностью «знатока» указать путь (в том числе и по воде), границы, выступить свидетелем при земельных спорах, опознать человека, траву и т. п. При этом дериваты с корнем *zna- не способны указывать на человека, обладающего большими знаниями, мудрого, сведущего, этот круг употреблений характерен для дериватов с корнем *věd- .
Преимущественно с корнем *věd- фиксируются дериваты, имеющие значения ‘весть, известие’, ‘известный’, ‘известно’: сущ. вѣсть , вѣстка , вѣстица [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 117, 119–120]; вѣстный ‘известный’, ‘оповещенный, поставленный в известность’, ‘служащий для подачи вестей’ [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 52]; вѣсто-вой ‘содержащий известия, сведения’, ‘связанный с доставкой вестей’, ‘служащий для подачи вестей’ [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 52]; вѣстоватый ‘содержащий много вестей’ [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 52] и др.
Исключительно в лексическом гнезде с корнем *zna- фиксируются производные с исходным значением ‘знак’: это само сущ. знакъ (укр. знак, болг. знак, сербохорв. знâк, словен. znâk, чеш., слвц. znak, польск. znak [Фасмер II: 100]), которое фиксируется в значениях: 1) ‘знак, метка’: А туловище его велѣно земскимъ ярыжкамъ схоронить… и колъ воткнуть для знаку. АИ. 1674 г., ‘значок’; 2) ‘знак, рисунок как символи- ческое обозначение чего-л.’: Под клеймами на двухъ вратахъ писаны разные знаки радости. Х. Рад. 1628 г., ‘клеймо’, ‘проба (на благородных металлах)’, ‘знак достоинства’, ‘отличительный знак рода войск’; 3) ‘признак, свидетельство’, ‘остатки, следы, свидетельствующие о чем-л.’: 44 зубца сбиты въ полсажени… да 5 зубцов сбиты по городовую стѣну, а иныхъ зубцовъ описать нельзѣ, потому что знаку нѣтъ. ДАИ. 1646 г., ‘образец, служащий доказательством, подтверждением чего-л.’; 4) ‘близкий, домочадец’: Инии убо своя знакы по своих зовуть свѣдѣтеля. Кирил. Иерус. Огл. XIII–XVI в. [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 39].
Схожий круг значений свойствен и для сущ. знамя (болг. зна́ме , чеш. znamě , польск. znamię ‘признак’ [Фасмер II: 100]), приведем лишь некоторые:
-
1) ‘знак, пятно, метка’; 2) ‘какой-л. знак на теле человека (родинка, родимое пятно и т. п.)’, ‘нарыв, язва, чумное пятно’, ‘след от язвы, раны’; 3) ‘знак, рисунок как символическое изображение чего-л.’; 4) ‘знамение’; 5) ‘стяг, знамя’ и др.
Близкий круг значений характерен для сущ. знамение (-ье) : 1) ‘знак, метка’, ‘пятно, родинка, синяк’; 2) ‘условный знак, сигнал; предначертание’; 3) ‘знамение, предзнаменование’; 4) ‘признак, свидетельство’, ‘письменное свидетельство, документ’; 5) ‘изображение, начертание, рисунок чего-л.’; 6) ‘знамя’; 7) ‘крещение, освящение, благословение’ [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 43].
Сущ. знатьба в русском языке XI–XVII вв. употреблялось в следующих значениях: 1) ‘знак, след’ (1143): Вѣтръ… поломи мостъ, 4 городнѣ отинудь бе-знатьба занесе . Новг. I лет.; 2) ‘признак’: Молитвами святаго отца Антонья и Феодосья… ослабла ему бысть, и злая воня преложися на благоухание: се знадба бысть ослабѣ его. Поуч. еп. Стефана ок. 1386 г. [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 52] и др.
Лексема знáтьба в русских говорах сохраняет эту семантику до сих пор, по данным «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» слово употребляется в следующих значениях: 1) ‘след от чего-н.’, 2) ‘знак, отметина’, 3) ‘родимое пятно, родинка’, 4) ‘заносчивый, чрезмерно гордый человек’ [СРГК 2: 255]. Значение ‘знак, метка’ сохранилось в ряде русских говоров (Олон., Пск.), ‘знак, след от ушиба’ (Новг.), ‘два соломенных жгута по обоим бокам невода, их видно при подъеме невода или воды – по ним узнают, равномерно ли тянутся оба крыла невода’ (Олон.), ‘родимое пятно’ (Волог.), ‘болезнь золотуха, от которой остаются на теле зна- ки, рубцы’ (Пск., Эст.), ‘разновидность золотухи’ (Пск.), ‘лишай и вообще всякая кожная болезнь’ (Петерб.) [СРНГ 11: 313].
Значение ‘знак’ восстанавливается для сущ. зна́тник , фиксируемого в говоре казаков-некрасовцев в значении ‘пограничный столб’ (‘знак’ > ‘пограничный столб’): Знатники стоять, там уж турецкая земля [СРНГ 11: 310], и для сущ. зна́харь , которое имеет в псковских говорах значение ‘плавающий указатель сети, буек’: Знáхарь – штоп знать, мачёк ф сетки, а плафки ф шшыфки [ПОС 13: 76].
Значение ‘знак, признак’ фиксируется у сущ. знание [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 48]; значение ‘ка-кой-л. знак на теле человека (родинка, родимое пятно и т. п.)’ у сущ. знаменка [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 52]; сущ. значокъ имело значение ‘знак воинских соединений’ [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 52].
Сущ. знатие (ье) означало не только ‘знание’, но и ‘навык, умение’, ‘определение по каким-либо признакам, опознание’: Взятъ былъ для знатия каменья гречанинъ. Спафарий. Китай. 1675 г. [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 50].
Значение ‘знак’ является одним из значений сущ. вѣсть , принадлежащего гнезду корня *věd- , но примеры употребления свидетельствуют, что вѣсть не является знаком, воспринимаемым визуально, ср.: А Ивану, государь, Лунину весть от бога есть, трясетца, а не устанет и по се число посулу имать . Хоз. Мор. 1651 г.; И велелъ имъ слушать вѣстнаго колокол<ь>ца, который для вѣсти большаго набату учиненъ . О втор. смят. 1690 г. [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 119].
Вероятно, появление значения ‘знак’ у дериватов корня *zna- относится к раннему периоду существования праславянского языка. В родственных языках значение ‘знак’ также образуется от корня, продолжающего и.-е. *ģen-², *ģenǝ-, *ģnē-, *ģnō- ‘знать’: греч. γνωμα ‘опознавательный знак’, лит. žymė ‘знак’ [Pokorny: 377]. С и.-е. корнем *ģen-², *ģenǝ-, *ģnē-, *ģnō- ‘знать’ в греч. языке фиксируются следующие лексемы: γνώμων – ‘знаток, судья; смотритель за священными маслинами в Афинах’, ‘указатель у солнечных часов; солнечные часы’; глагол γνωρίζω – 1) ‘делать известным, понятным; показывать, объяснять’, позд. ‘рекомендовать’, 2) ‘познавать, узнавать’, ‘знакомиться, быть знакомым с кем-л., знать кого’; γνώρισις – 1) ‘знакомство’, 2) ‘познавание’; γνώρισμα – ‘признак, примета’; γνωσις – 1) ‘познавание, узнавание; познание, знание’, 2) ‘судебное решение’. Особенно интересны дериваты γνώστηρ – 1) ‘человек, знающий кого-л. лично; поручитель, свидетель’; γνώστης – ‘поручитель, свидетель’, позд. Н. З. ‘знаток’; γνωστικός – 1) ‘познаваемый, понятный’, 2) поэт.
позд. ‘известный, знакомый’; γνωτός – ‘известный; знакомый, родной (особенно часто брат)’ [Вейсман 1899: 274–275]. Заметим, что для приведенных лексем, содержащих и.-е. *ģen-², *ģenǝ-, *ģnē-, *ģnō- ‘знать’, характерны идеи знакомства и визуального опознавания, что наблюдаются в семантике дериватов праслав. корня *zna- .
Еще одно различие лексических гнезд с корнями *věd- и *zna- связано со способностью или неспособностью образовывать единицы определенной семантической группы. Присущее традиционной культуре представление о людях, обладающих особым, сверхъестественным знанием, предопределяет появление у глагола семантического класса ‘знать’ значения ‘обладать особым, сверхъестественным знанием’, а у его дериватов – значений ‘колдун’, ‘знахарь’, ‘провидец’, ‘колдовство’ и т.п. Мифологическая семантика в памятниках XI–XVII вв. присуща исключительно дериватам с корнем *věd- : вѣщии ‘вещий, владеющий даром предсказания’; вѣщьць ; вѣщба ‘предречение, предсказание будущего; гадание’; вѣдунъ ; вѣдьма ; вѣдь ‘женщина, обладающая особым, сверхъестественным знанием’, ‘колдовство, чародейство, знахарство’ ‘провидение, промысел; чудодейственная сила’ [СлРЯ XI– XVII вв. 2: 50]; вѣдство , вѣдовьство , вѣдов-ство в словарях толкуются как ‘колдовство, знахарство’, ‘колдовство, чародейство’, ‘знахарство, колдовство, чародейство’: А церковнии суди: вѣдьство [вар. вѣдовьство в сп. XV и XVI вв.] потвори; чяродѣеяние . Церк. устав. Влад. XV в. сост. 996–1011 гг. [СлРЯ XI–XVII вв. 2: 49–50].
Таким образом, анализ семантики единиц лексического гнезда с корнем *zna- подтверждает гипотезу о том, что ядерное значение глагола знати в языке XI–XVI вв. было связано с идеей знакомства, узнавания кого-либо/что-либо и опознавания. Значения ‘сведущий, мудрый’, ‘знаток’, ‘обладающий особым, сверхъестественным знанием’ и т. п. для лексического гнезда с корнем *zna- нехарактерны, они фиксируются только у дериватов корня * věd - (их появление стало возможным только после того, как глагол знати начал вторгаться в семантическую область глагола вѣдѣти ). Производные с корнем *zna- в роли nomina agentis используются для указания на знание какого-либо дела, способность «знатока» указать путь, границы, опознать кого-л. или что-л.
Этот вывод несколько парадоксален: казалось бы, идея визуального опознавания должна бы связываться в языке с глаголом вѣдѣти, который производен от видѣти и еще сохраняет эту связь в древнерусском языке. Логическим объяснением этому может служить тот факт, что кор- ни *u̯ eid- / *u̯ oid- и *ģnō- по-разному делили семантическое поле знания в истории и.-е. языка и, по всей видимости, значение ‘узнать кого/что, опознать (по визуальным признакам)’ является лишь ступенью семантического развития и.-е. *ģnō-. В связи с этим закономерно еще раз поставить вопрос о генетической связи *ģen-¹, *ģenǝ-, *ģnē-, *ģnō- ‘рождать(ся)’ и *ģen-², *ģenǝ-, *ģnē-, *ģnō- ‘знать’. Если предположить, что более древним значением и.-е. *ģen-² ‘знать’ является не ‘знать, опознавать по визуальным признакам’, а ‘знать, быть знакомым’, то становится ясно, как могли быть связаны *ģen-¹ и *ģen-²; вероятно, значение ‘быть родственным с кем-л.’ развило значение ‘быть знакомым с кем-л.’. Однако это предположение нуждается в подтверждении на обширном материале и.-е. языков.
Список словарей и картотек (с сокращениями)
ЕСУМ – Етимологiчний словник украïнськоï мови. Киïв: Радянська шк., 1982. Т.1.
КАС – Картотека Словаря говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (кафедра общего и славянского языкознания ПГНИУ, Пермь).
КМЛПК – Картотека лексических и фразеологических единиц, функционирующих в мифологических рассказах Пермского края (кафедра общего и славянского языкознания ПГНИУ, Пермь).
СлДРЯ XI–XIV вв. – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). М.: Рус. яз., 1988. Т.1.
СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. М.: Наука, 1975. Вып. 1.
СОПИ – Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»: в 6 вып. М.; Л.: Наука, 1965–1984.
SEMANTIC DIFFERENCES OF *věděti AND *znati VERBS
Assistant of Methodology of Primary Education Department
Perm State Humanitarian-Pedagogical University
The article analyses the semantic differences of the Proto-Slavic *věděti and *znati verbs in the Proto-Slavic and Old East Slavic languages. The meaning of these verbs is reconstructed according to the semantics of the corresponding derivations found in those languages. In the Russian language of the XI-XVIIth centuries the semantic domain of the *zna- root is not typical of ‘all-knowing, wise’, ‘the one who knows’, ‘the one who has knowledge of supernatural things’. This domain mainly belongs to the *věd- root, whereas *zna- root belongs to the domain of ‘sign (visually percieved)’, ‘familiar’. These forementioned differences confirm the hypothesis that the main meaning of the *znati verb is closely related to the idea of getting to know, being acquainted [(with) something or somebody].
Список литературы Семантические различия глаголов *vede ti и *zna ti в праславянском и древнерусском языках
- БЕР -Български етимологичен речник. София, 1962. Т.1.
- Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. СПб., 1899. 1370 с.
- ЕСУМ -Етимологiчний словник украïнськоï мови. Киïв: Радянська шк., 1982. Т.1.
- КАС -Картотека Словаря говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (кафедра общего и славянского языкознания ПГНИУ, Пермь).
- КМЛПК -Картотека лексических и фразеологических единиц, функционирующих в мифологических рассказах Пермского края (кафедра общего и славянского языкознания ПГНИУ, Пермь).
- ПОС -Псковский областной словарь с историческими данными. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1967. Вып. 1.
- Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка: в 2 т. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1959.
- СлДРЯ XI-XIV вв. -Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.). М.: Рус. яз., 1988. Т.1.
- СлРЯ XI-XVII вв. -Словарь русского языка XI-XVII вв. М.: Наука, 1975. Вып. 1.
- СОПИ -Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»: в 6 вып. М.; Л.: Наука, 1965-1984.
- СПГ -Словарь пермских говоров. Пермь: Кн. мир, 2000-2002. Вып.1-2.
- СРГК -Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1994-2005. Вып. 1-6.
- СРНГ -Словарь русских народных говоров. М.; Л.: Наука, 1965. Вып. 1.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 1986. Т.I-IV.
- Шанский -Этимологический словарь русского языка. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963-1982. Вып.1-8; вып.9/под ред. А.Ф.Журавлева, Н.М.Шанского. М., 1999.
- ЭСБМ -Этымалагiчны cлоўнiк беларускай мовы. Мiнск: Навука i тэхнiка, 1978. Т.1.
- Brükner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985. 806 s.
- LIV -Lexikon der indogermanischen Verben. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2001. 832 S.
- Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha: Naklad. Ceskoslovenske Akademie Ved, 1957. 627 p.
- Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; Münchens: Francke, 1949-1959. Bd.I-II.
- Rudnickyj J. An Etymological Dictionary of the Ukrainian Language. Winnipeg: Ukrainian Free Academy of Sciences, 1966-1969. T.1-3.
- Schuster-Šews H. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober-und niedersorbischen Sprache. Bautzen: Domovina, 1978-1989. Bd.1-24.
- Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М.: Индрик, 2002. 336 с.
- Виноградов В.В. История слов. М: ИРЯ РАН, 1999. 1138 с.
- Журавлев А.Ф. Древнеславянская фундаментальная аксиология в зеркале праславянской лексики//Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии и семантики. Слово в контексте культуры. М., 1999. С.7-32.
- Птенцова А.В. Семантическая оппозиция глаголов знати и вѣдѣти на материале русских оригинальных памятников XI-XVI вв.//Die Welt der Slaven LIII, 2008. С.265-278.
- Птенцова А.В. Сопоставительный семантический анализ глаголов вѣдѣти и знати на материале некоторых оригинальных русских памятников, входящих в состав Майского тома ВМЧ//Abhandlungen zu den grossen lesemenaen des metropoliten Makarij. Band 2. Weiher -Freiburg I. Br. 2006. С.137-149.
- Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки рус. культуры, 1997. 824 с.
- Топоров В.Н. Из индоевропейской этимологии. V. (1)//Этимология 1991-1993. М., 1994. С.126-143.
- Трубачев О.Н. Древнейшие славянские термины родства//ВЯ. 1957. №2. С.86-95.
- Успенский Б.А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М.: Изд-во МГУ, 1983. 144 с.
- Цейтлин Р.М. Лексика старославянского языка (Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X-XI вв.). М.: Наука, 1977. 179 с.