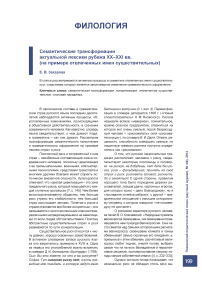Семантические трансформации актуальной лексики рубежа XX-XXI вв. (на примере отвлеченных имен существительных)
Автор: Захарова Елена Валерьевна
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 4 (6), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются активные процессы в семантике отвлеченных имен существительных, следствием которых является закономерное изменение грамматического оформления.
Семантическая трансформация, конкретизация, отвлеченное существительное, числовая парадигма
Короткий адрес: https://sciup.org/14219329
IDR: 14219329
Текст научной статьи Семантические трансформации актуальной лексики рубежа XX-XXI вв. (на примере отвлеченных имен существительных)
В лексическом составе и грамматическом строе русского языка последних десятилетий наблюдаются активные процессы, обусловленные изменениями, происходящими в объективной действительности, в сознании современного человека. Как известно, словарь языка свидетельствует, о чем думают люди, а грамматика – как они думают. Рассмотрим трансформации семантического наполнения и грамматического оформления на примере лексем страх и риск .
Постоянный риск и сопряженный с ним страх – неизбежные составляющие жизни современного человека, поскольку цивилизация с ее промышленными, военными, компьютерными технологиями, средствами транспорта и многими другими благами может служить источником внезапной опасности. Культурологи отмечают, что «зрелая цивилизация – это зона предельного риска, который повышается с каждой ступенью прогресса» [7, с. 145]. Чем более высокоорганизованно общество, тем больше риск утраты его стабильности, тем больший страх испытывает человек. Понятие о риске и страхе становится все более конкретным – оно связывается с многочисленными опасностями, различными непредсказуемыми и не зависящими от воли людей обстоятельствами. Поэтому абстрактные существительные страх и риск развиваются по пути конкретизации.
Существительное риск относится к числу давних, хорошо освоенных заимствований. В активном словарном запасе русского языка оно закрепилось примерно в XVIII в. Одно из первых его употреблений можно встретить в комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769): Сын. Вы это знаете, на что ж вы рискуете? Софья. Тут никакого риску нет; а есть очевидная моя погибель, в которую ведут меня батюшка и матушка (д. I, явл. 4). Первая фиксация в словаре датируется 1806 г. («Новый словотолкователь» Н. М. Яновского). Риском называли всякое «неверное», сомнительное, крайне опасное предприятие, отважиться на которое мог очень смелый, порой безрассудный человек – «рискователь» (или «рискова-тельница»), по словарю В. И. Даля. Отвага, решимость, способность совершать смелые, но лишенные трезвого расчета поступки определялись как «рискованье».
О том, что русские национальные традиции располагают человека к риску, свидетельствуют некоторые пословицы и поговорки: не рискуя, не добудешь; нет дела без риска; риск – фельдмаршал; принять на свой страх и риск; рисковать головой; рискнуть, да и закаяться! С одной стороны, правилом хорошего тона было порицание дерзких ри-скователей, ловцов удачи, карточных игроков, для которых «риск – дело благородное», но и «последняя копейка ребром»; с другой – презрительное отношение к излишне осторожному человеку, о котором говорили: «не посмеет, духу не достанет».
О рисковом характере русского человека писал В. О. Ключевский: «Народные приметы великоросса своенравны, как своенравна отразившаяся в нем природа Великороссии. Она часто смеется над самыми осторожными расчетами великоросса; своенравие климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу погоды каприз собственной отваги» [4, с. 232–233].
Однако история слова показывает, что изначально риск не обладал столь ярко вы-
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013
раженным ореолом авантюрности, романтизма; обозначал не какую-то абстрактную опасность, а вполне конкретные реалии окружающего мира. В русский язык риск пришел в XVI в. из французского языка (risqué, m. – «риск», «опасность»), который, в свою очередь, заимствовал слово из итальянского (rischio < risico – «опасность»). Происхождение слова остается до конца невыясненным, но можно предположить, что пришло оно из речи мореплавателей, путешественников. Некоторые этимологи возводят риск к греческому первоисточнику ριζ׃χός/rizikon – «утес», «скала» или ρίζά/riza – «корень, основание скалы», «подножие горы», связывая значение риск с несчастными случаями на море, кораблекрушениями. (Ср.: новогреч. ριζιχό(υ)/rizixo – «судьба», «участь», «доля»). Рисковать – значит, подвергаясь опасности, «огибать утес, скалу», «лавировать между скал». Как видим, исторически «отвлеченность... формируется на основе конкретности... Абстрагирование на базе слова путем дифференциации смыслов, обобщения семантики, преодоления многозначности и смысловой раздробленности, изменения предметно-логического содержания» [1, с. 283–284].
Согласно толковым словарям современного русского языка существительное риск имеет два основных значения. Во-первых, риск – это возможная опасность, неудача ( подвергать риску, недооценить риск, уменьшить риск ). Во-вторых, это смелые действия наугад, в надежде на счастливый исход, но которые могут привести к неблагоприятным последствиям ( идти на риск, делать что-либо с риском для жизни, действовать на свой риск ).
Но реалии современного мира таковы, что «абстрактные понятия и категории сами по себе не удовлетворяют мыслительных и духовных потребностей человека. Все абстрактное в широком смысле оценивается... как нечто неорганизованное, аморфное, не имеющее четкого содержания» [1, с. 67].
В последнее время понятие риска обретает все более четкие контуры. Во-первых, риск представляется как мера опасности. Определяется величина угрозы (малый, незначительный риск; значительный, высокий, огромный, громадный, сплошной риск), возможность влиять на нее, изменять количественно (повысить, увеличить, усугубить риск; снизить, уменьшить, свести к минимуму, предотвратить риск). Во-вторых, опасность часто связывается с определенным количеством людей, с долей населения, с так называемой группой риска. В-третьих, риск соотносится с возможным конкретно взятым неблагоприятным событием, негативной ситуацией. Например: риск заболевания ОРЗ и другими вирусными инфекциями (Электронное объявление, 2004); риск никотиновой зависимости («Вечерний Екатеринбург», 2004); риск потерять накопления («Российская газета», 2003); риск лишиться сразу всех карманных «удобств» (о мобильных средствах связи) (Forbes, 2005); риск потерять свои деньги (Forbes, 2005); риск наводнений («Известия», 2002); риск выбросов в атмосферу пожароопасных и токсичных продуктов («Независимая газета», 2003); риск поражения стен грибками и микроорганизмами («Пермский строитель», 2004); риск гибели популяции планктона («Геоинформатика», 2003). Контексты подтверждают, что современный человек все чаще рискует своим здоровьем, порой жизнью, а также материальным, финансовым благополучием, что также немаловажно.
В зависимости от того, в какой из сфер жизни человека складываются те или иные опасные ситуации, выделяются особые виды рисков, которые получают устойчивые наименования. Риск в этом случае отождествляется не с любой абстрактной негативной ситуацией, а с конкретной, локализованной в определенной сфере. Например, экологический риск, техногенный риск, социальный риск, политический риск, криминальный риск . Примеры говорят о том, что у существительного риск появляются новые, более конкретные терминологические значения, которые в качестве самостоятельных лексико-семантических вариантов фиксируются в словарях.
Специальное значение слова риск отмечено еще в толковом словаре Д. Н. Ушакова – «опасность, от которой производится страхование имущества». В «Толковом словаре русского языка начала XXI века» как самостоятельное приводится значение «вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом». «Словарь современных понятий и терминов» выделяет разновидности: инфляционный, коммерческий и кредитный риски. В последние десятилетия пристальное внимание уделяется экономическим и финансовым рискам , например таким как: валютный риск – «риск потерь из-за негативных последствий изменения обменных курсов валют»; риск катастрофы – «риск наступления форс-мажора: потерь из-за событий, имеющих негативные последствия, включая стихийные бедствия, войну и др.»; правовой риск – «риск того, что соглашение невозможно выполнить по действующему законодательству»; риск потери репутации – «риск потерь из-за снижения репутации на рынке»; риск систем обеспечения – «риск потерь из-за ошибок или сбоев в системах обеспечения»; наконец, может возникнуть риск концентрации – «риск потерь из-за концентрации рисков» .
(Приведенные примеры взяты из словаря риск-менеджмента, составленного в 1999 г. российской некоммерческой независимой организацией практиков и исследователей финансовых рисков. Подробнее со словарем можно ознакомиться по адресу: http://www.risk-manage.ru .) Такое семантическое развитие существительного влияет на его парадигму: отвлеченное существительное singularia tantum становится словом с полной парадигмой. Формы множественного числа указывают на совокупности рисков определенного «сорта», на родовидовые отношения между ними. Например, риски от либерализации энергетического рынка («Российская газета», 2003); риски, связанные с банковскими продуктами и услугами, операционные риски («Финансы и кредит», 2003); защита от экономических и политических рисков (Forbes, 2005); страхование имущественных, авиационных и морских рисков («Известия», 2002); управление информационными рисками («Информационные технологии», 2003).
При этом форма множественного числа все чаще встречается не только в профессиональных, научных, но и в публицистических, художественных текстах, в разговорном дискурсе. Если обратиться к Национальному корпусу русского языка, то окажется, что соотношение форм единственного и множественного числа таково: риск – около 2000 случаев употребления, риски – около 500.
Например: Некоторые риски доморощенные , свои, но все же основные риски – чужие («Известия», 2001); Возможность разделить с коллегами не только успехи, но и возможные риски («Витрина читающей России», 2002); Раньше я все эти риски принимал на себя. Не хочу больше нести эти риски («Дело», 2002); Хорошо, что есть риски и что будут конфликты, – сразу же закипятился глава сенатского комитета («Известия», 2003); Сейчас самое важное — дать людям информацию о возможных рисках при трудоустройстве («Аргументы и факты», 2003); Белый слон приносит нации мир, стабильность, благосостояние и обильный урожай, а также защищает от всех рисков и опасностей («Семья», 2001); Нужно новое сознание, новый опыт управления рисками («Еженедельный журнал», 2003).
Конкретизация значения существительного риск может осуществляться путем метонимического переноса. Риск – это не только возможная неблагоприятная ситуация, но и конкретная сумма платежа по определенной статье страхового обязательства. Например: Если пересчитать риски в совокупности, то получатся довольно значительные суммы («Финансовая Россия», 2002); Вы посчитали воз- можные риски из-за срыва поставок? («Известия», 2002).
Такое активное вхождение рисков в нашу речь можно объяснить следующим. Мир как никогда ранее открыт современному человеку. Возрастают возможности реализации в новых сферах. Убыстряющийся темп жизни заставляет даже не слишком динамичных людей устанавливать новые контакты, вступать, например, в те же экономические, торговые отношения. Естественно, что вслед за новыми возможностями появляются все новые виды рисков. Четкая дифференциация рисков необходима обществу, которое желает называться цивилизованным и оберегает жизнь человека.
Риск – всегда преодоление опасности, чего-то неизвестного, преодоление себя и такого сильного эмоционального состояния, как чувство страха. Действительно, страх – яркое, всеобъемлющее чувство. В поэтических текстах страх часто определяется как великий, томительный, жуткий, безумный (Д. Ратга-уз), зловещий (А. Майков), леденящий, холодный (А. Дельвиг), бледный (А. Пушкин), темный (П. Вяземский), смертный (И. Козлов) [2]. Возможно, подобные эпитеты неслучайны: древнейшее значение общеславянского слова strah – «оцепенение», близкое литовским stregti, stregiu – «оцепенеть, превратиться в лед», латышскому strēgґele – «сосулька», средневерхненемецкому strac – «тугой», нововерхненемецкому strecken – «растягивать», древневерхненемецкому stracken – «быть растянутым». Ср. такие выражения: окаменеть, одеревенеть от страха, остолбенеть, застыть, оцепенеть от страха . О том, что страх сковывает волю, порой искажает видимое, говорят некоторые пословицы и поговорки: страх на тараканьих ножках бродит; под страхом ноги хрупки; слепой страх напал; у страха глаза велики (да ничего не видят или чего нет – и то видит); страху в глаза гляди, не смигни!
В дальнейшем материально-чувственные представления о страхе обобщились, абстрагировались в более строгое и емкое определение. Согласно словарям русского языка страх – это прежде всего психологическое состояние крайней тревоги и беспокойства, вызванное реальной или воображаемой опасностью, угрожающей жизни человека или его ценностям.
Реалии современной действительности чаще порождают социальные страхи: страх перед войной, перед террором, страх за свое будущее и за будущее своих детей («Независимая газета», 2003); страх утратить что-то, страх упустить хорошую возможность, страх вновь оказаться в условиях худших, чем есть у тебя сейчас (Отзыв на сайте о летнем лагере, 2003); страх перед ночным сту-
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013
ком в дверь («Новая газета», 2003); страх оказаться на курорте, который на самом деле в эпицентре тайфуна или циклона («Автопилот», 2002); страх перед изменениями («Аргументы и факты», 2007); страх по поводу произвола властей («Неприкосновенный запас», 2004); страх показать себя не таким («Культура», 2002).
Однако в последнее время в периодических изданиях и на ТВ все чаще встречается форма не только единственного числа страх , но и множественного – страхи . По данным Национального корпуса русского языка, соотношение употреблений страх в единственном и во множественном числе следующее: страх – около 6000, страхи – около 700 употреблений.
Почему же все-таки не страх , а страхи ? Потому что все они разные, у каждого – свои страхи.
Чувство страха может проявляться как опасение, боязнь или безотчетный ужас. В специальных областях психологии выделяются самые разнообразные виды страхов, например детские, фантазийные, бессознательные, невротические, профессиональные . В данном случае форма множественного числа указывает на особый вид страха. В других случаях возможно указание на совокупность отрицательных эмоций, переживаемых человеком: Тревога, волнения и страхи – естественные и близкие человеку эмоции («Вокруг света», 2004); Испытывают эти страхи просто все («Неприкосновенный запас», 2004); Страхи взрослых людей – это отражение страхов детских и юношеских («Семья», 2000).
Согласно определениям толковых словарей страхи – это реальные события, предметы, вызывающие чувство боязни, опасения. Например: Все связанные с кризисом 98-го года страхи ушли в прошлое («Известия», 2002); В киевской квартире были свои страхи («Звезда», 2003); В этом святая уверенность ребенка, что папа – самая надежная защита от всех страхов и опасностей («Семейный доктор», 2004); Ему приходилось забывать рассказы о страхах (она боялась самолетов, бактерий, инопланетян) («Звезда», 2001) . Это представления об опасности: Древние страхи – страхи человека, застывшего один на один перед Богом и не ждущего от него пощады («Знание – сила», 2003); В темноте, при шорохе придорожного леса, мерещатся невесть какие страхи (Ю. Беляев); Вот тут и возникают страхи, множество страхов , потому что много препятствий, и все – неодолимые («Семья», 2000) .
Современный человек порой неосознанно персонифицирует чувство страха. Страх чаще всего вползает, преследует, воцаряется, то есть довлеет над человеком, действует помимо его воли: страх овладел сознанием («100 % здоровья», 2003); в России воцарился страх («Известия», 2002); страх становится неприятным прилипчивым спутником (100 % здоровья. 2002). И человек «все свои страхи убаюкает сном, вскочит, придет в память, а они, страхи-то, снова ворохом наседают, и надо торопиться, чтобы укладывать их в стены» (В. Распутин). В такой метафоре – отголоски мифологического мышления. В преданиях восточных славян Страх (или Рах) – бог ужаса, смятения, страха – появлялся вместе с ветром-суховеем в самом центре огненного вихря, поэтому его никто не видел, но присутствие его чувствовал каждый. Если он был рядом, то вызывал такое чувство страха, устоять против которого никто не мог. «Вдруг поднялся сильный ветер, какого не видано, не слыхано, людьми старыми не запомнено. Закрутило, завертело, глядь – подхватил ви-хорь царевну, понеслась она по воздуху! Мамки вскрикнули, ахнули, бегут-оступаются, во все стороны мечутся, но только и увидели, как помчал ее вихорь («Сказка о Василисе, золотой косе, непокрытой красе, и об Иване-Го-рохе» из книги Б. Бронницына).
Страх принимал облик огненного змея, вепря, волка, но чаще – огненной птицы. Это жар-птица в русских сказках, птица-огневик в словацких, Ногай- или Стратим-птица в любовных заговорах. «На востоке, не в восточной стороне, есть Окиан-море, на том Окиа-не-море лежит колода дубовая, на той на колоде, на той на дубовой, сидит Страх-Рах. Я тому Страху-Раху покорюсь и помолюсь: “Создай мне, Страх-Рах, семьдесят семь ветров, семьдесят семь вихорев; ветер полуденный, ветер полуночный, ветер суходушный, которые леса сушили, крошили темные леса, зеленые травы, быстрые реки; и так бы сушилась, крушилась обо мне (имя рек) раба”...» ; Живет Стратим-птица «на Оки-ян-море, / Стратим-птица встрепенется, / Окиян море всколыхнется. / Топит она корабли гостиные со товарами драгоценными» («Голубиная книга») . На лубочных картинках страх изображался в виде крылатой человеческой головы. Ср.: обуял крылатый страх (В. Кюхельбекер); и вслед за ними страх летит (К. Рылеев) .
Другим воплощением страха были страшки, духи низшего ранга; по одним преданиям, они пугали ночью хозяев дома возней и стуком, по другим – сбивали путников с дороги.
Излишне боязливого, пугливого человека или того, чья наружность не отличалась особой привлекательностью, на Руси нередко прозывали Страхом. Например, в словаре Н. М. Тупикова упоминаются московский купец Страх (XV в.), крестьянин Страх (1565 г.), запорожский казак Страх (1667 г.) Фамилия Страхов была связана с диалектизмом стра-хать – «пугать» и была в большом ходу у семинарских наставников, напоминала воспитанникам о послушании, страхе божьем, «долге» быть богобоязненными.
В любом случае, в обыденном сознании, которое сохраняет следы мифологического, страх отождествляется с некой субстанцией, часть которой человек как бы «примеряет» на себя, соотносит со своими возможностями. Например: Кричал он со страху , хотя и привычно прятал его (Б. Васильев); Мне пришлось воротиться в Тверь, поднять на ноги губернское начальство, нагнать страху на ни в чем не повинных обывателей, натерпеться страху самому , представляя петербургские истерики (Б. Окуджава); Ребята бежали впереди, продолжая буксовать отяжелевшими, словно начерпавшими страху ботинками (О. Славникова); А чем больше страху они натерпелись , тем больше от них будет зла (Л. Улицкая) . Форма родительного падежа на -у передает оттенок количественного значения, то есть речь идет лишь о «доле» всеобщего страха, но этот страх личный, пережитый, выстраданный.
Кстати, процесс, обратный конкретизации, – абстрагирование – коснулся отвлеченного существительного лихорадка . Изменение семантического наполнения, выразившееся в грамматическом оформлении, также связано с мифологическими представлениями.
Лихорадка – одна из тяжелых болезней, не случайно ее название связано со словом лихо – «зло». В славянских заговорах лихорадка олицетворяется и представляется в виде не одного, а множества демонических духов, общее число их – 7, в некоторых заговорах – 9, 19, 40, 77. Принимали образы или соблазнительной наружности женщин в белых одеждах, действующих на людей посредством чар, или злых, худых, безобразных и простоволосых древних старух, которые ходят в лаптях, с палкой и стучат по ночам в окно клюкой; кто отзовется на их стук, к тем они и «пристают». В народных представлениях – это демоны болезни, живущие в реках, болотах, в ущельях гор, летающие по воздуху. В христианской апокрифической традиции лихорадки – это 12 дочерей, реже – сестер Ирода, посылаемых на землю: «Посланы мы от Ирода-царя в мир православный тела их трясти и кости их мождати» .
Имена лихорадок различны, но все носят «медицинский» характер, отражают симптомы заболевания: Трясея, Кашлея, Душлея, Сонлея, Синея, Пухлея, Секея, Ледея, Гнетея, Невея, Отпея, Хрипуша, Каркуша, Глухея, Ло-мея, Желтея, Гледея, Авея, Немея, Огнея, Знобея, Дрожуха, Говоруха, Бесонниха, Сухо- та, Аввареуша и др. (по записи XVIII в.). Каждая из этих сестер имеет «свой вкус»: одна отбивает от еды, другая гонит сон, третья сосет кровь, четвертая тянет жилы и пр. Или же каждая из них терпит и сама то или другое страдание: одна вечно дрожит от холода, другая постоянно мечется в жару, третья корчится от ломоты в костях и т. д. В старых заговорах встречается перечисление имен лихорадок вместе с определением того, что делает каждая из них: «Мне есть имя Трясея. Не может тот человек согреться в печи». Вторая рече: «Мне есть имя Огнея. Как разгорятся дрова смоле-ныя в печи, так разжигает во всяком человеке сердце». Третья рече: «Мне есть имя Ледея. Знобит род человеческий, что тот человек в печи не может согреться». Четвертая рече: «Мне есть имя Гнетея. Ложится у человека по ребре, аки камень, задыхает, задохнуть не дает, с души смывает». Пятая рече: «Мне есть имя Хрипуша. Стоя кашлять не дает, у сердца стоит, душу занимает» <...> Одиннадцатая рече: «Мне есть имя Гледея. Та буди всех проклятие: в нощи спать не дают; на месте сидит». Двенадцатая рече: «Мне есть имя Невея. Сестра старейшая трясовича и угодница ирода царя, наболящим человеком страшна; та усекнула главу Иоанна предтечи и принесла пред царя на блюде» [5, с. 429].
В народных преданиях лихорадка может ходить и в одиночку. При этом из табуисти-ческих соображений ее зовут ласкательно – приветливыми именами: добруха, кумоха, сестрица, тетка, гостьюшка, гостейка, весен-ница, ворогуша и др.
Форма множественного числа объясняется персонификацией болезненного состояния человека, носит явный оттенок пейоративного отчуждения: враждебные существа из другого, чужого мира вторгаются в мир человека. А. А. Потебня отмечал, что форма множественного числа веснушки, лихорадки объясняется представлениями древних о том, что мифические существа, овладевающие человеком во время болезни, являлись многочисленными. Г. Н. Семёнова (2007) отмечает, что в немецком языке обнаруживается тенденция обозначения болезненных состояний формой мн. числа: Masern – «корь», Pocken – «оспа»; Kinder gegen Pocken impfen – «делать детям прививку от оспы». Ср.: Не раз и не два сорокаградусные гриппы закричат, застучат в уши, забьют в красные барабаны, обступят с восьми сторон и, бешено крутя, покажут кинофильм бреда (Т. Толстая).
В современной медицинской терминологии выделяют геморрагические лихорадки , вызываемые вирусами семи родов: кьясанурская лесная болезнь, лихорадка долины Рифт, аргентинская, боливийская лихорад-
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013
ка, лихорадка Ласа, лихорадка Марбург, лихорадка Эболы .
Персонифицироваться могли не только негативные ощущения и болезненные состояния. Например, в античной мифологии боги радости и веселья – Смехи . Словарь языка Пушкина отмечает форму множественного числа и приводит соответствующие контексты: И да блюдут твой мирный сон / Нептун, Плутон, Зевс, Цитрея, Гебея, Писша, Крон, / Астрея, Феб, Игры, Смехи, Вакх, Харон (Ода его сиятельству графу Дмитрию Ивановичу Хвостову («Султан ярится. Кровь Эллады…»)); Но, Клоя, ты мила собой. / Тебе вослед толпятся смехи, / Сулят любовникам утехи (К молодой актрисе («Ты не наследница Клероны…»)); Мой век невидимо проходит из круга Смехов и Харит, / Уж Время скрыться мне велит / И за руку меня выводит (Стансы (Из Вольтера) («Ты не велишь пылать душою…»)).
Итак, принадлежащие к одному тематическому пласту (наименования эмоций, психологических состояний человека) отвлеченные существительные страх и риск испытывают семантические изменения, отражающиеся в грамматическом оформлении. Если заимствованный риск изначально соотносился с конкретным понятием, а исконный страх – с физическим и психологическим состоянием, то на позднейших этапах развития обнаружи- лось сходное семантическое развитие, конкретизация отвлеченного понятия (в первую очередь в профессиональной речи и разговорном дискурсе). Семантические изменения отражаются на грамматических свойствах слов: существительные singularia tantum приобретают полную числовую парадигму, что активно проявляется в современной речи.
-
1. Дегтярёв В. И. Категория числа в славянских языках. Ростов н/Д, 1982.
-
2. Зеленецкий А. Л. Словарь. Эпитеты литературной русской речи. 1913. Электронный вариант // Б-ка словарей. Т. 4. 2006.
-
3. Калинина Л. В. К вопросу о критериях выделения и отличительных приметах лексико-грамматических разрядов имен существительных // Вопр. языкознания. 2007. № 3. С. 67.
-
4. Ключевский В. О. Психология великоросса // В. О. Ключевский. Курс Русской истории. URL : http://www.bibliotekar.ru/rusKluch/ (дата обращения: 12.02.14).
-
5. Русская мифология. М., 2007.
-
6. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987.
-
7. Эпштейн М. Н. Хоррорология. Ужас как высшая ступень цивилизации // Эпштейн М. Н. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. М., 2004.
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013

Semantic Transformations of Active Vocabulary at the Turn of XX–XXI Centuries(on the Example of the Abstract Nouns)
Список литературы Семантические трансформации актуальной лексики рубежа XX-XXI вв. (на примере отвлеченных имен существительных)
- Дегтярёв В.И. Категория числа в славянских языках. Ростов н/Д, 1982.
- Зеленецкий А.Л. Словарь. Эпитеты литературной русской речи. 1913. Электронный вариант//Б-ка словарей. Т. 4. 2006.
- Калинина Л.В. К вопросу о критериях выделения и отличительных приметах лексико-грамматических разрядов имен существительных//Вопр. языкознания. 2007. № 3. С. 67.
- Ключевский В.О. Психология великоросса//В.О. Ключевский. Курс Русской истории. URL: http://www.bibliotekar.ru/rusKluch/(дата обращения: 12.02.14).
- Русская мифология. М., 2007.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987.
- Эпштейн М.Н. Хоррорология. Ужас как высшая ступень цивилизации//Эпштейн М.Н. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. М., 2004.