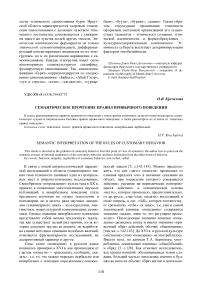Семантическое прочтение правил привычного поведения
Автор: Кречетова Ольга Викторовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются правила привычного поведения с точки зрения семантики; делается попытка раскрыть семантическую сущность национальных бытовых правил привычного поведения, а также рассмотреть их отличие от этикетных правил поведения.
Поведение, этикет, правила привычного поведения, невербальный
Короткий адрес: https://sciup.org/148179628
IDR: 148179628
Текст научной статьи Семантическое прочтение правил привычного поведения
В связи с новой антропологической парадигмой исследований в области гуманитарного знания тема телесности занимает одно из центральных мест в антропологических исследованиях. Своеобразное «возрождение» культа тела в XX в. привело к появлению многочисленных научных публикаций, а невербальное поведение стало предметом изучения не только психологии и психиатрии, но и целого ряда научных дисциплин гуманитарного цикла – культурологии, лингвистики, межкультурной коммуникации, семиотики. Однако описание невербального поведения представляет собой весьма трудоемкую задачу, так как существует целый ряд причин, из-за которых довольно трудно ее решить: не выработана единая методика описания подобных явлений, отмечается фрагментарность исследований, их дескриптивный характер и другое.
Само слово «поведение» в русском языке появилось примерно в XVI в. как производное от глагола «повести» – «рассказать, сообщить, сказать», т.е. то, что можно передать вербально или невербально с помощью определенных совокуп- ностей знаков [5, с.142-143]. Можно предположить, что сам глагол «повести» произошел от слияния предлога «по» в значении «указание на объект, при посредстве которого совершается действие; указание на периодически повторяющиеся действия» и семантической основы «вестъ», которое произошло, предположительно, от др.-русск., стар.-слав. «ведати», восходящий, в свою очередь, к лат. «vīdī», которое соответствует греческому «οτδα» «я знаю», т.е. уже в самой лексической единице «поведение» содержится значение «ведаю, знаю то, что регулярно происходит». Последующие значения лексемы «поведение» развились позже и имеют значения «привычный образ действий; обычай, обыкновение» [там же, с.142-143]. До XVI в. в русской культуре собственно слово «поведение» не употреблялось. Вместо него, по данным Т.А. Бернштам, употреблялись лексические единицы «обык/обычай» и обряд [3, с.126]. Как отмечает исследователь, вся группа понятий, обозначавшихся этими словами, большей частью относились именно к будням во всем их объеме: образ жизни и деятельно- сти - домашнее хозяйство, одежда, пища, отношения внутри семьи и вне ее [там же].
Правила привычного поведения основаны на обычае, который, в свою очередь, не всегда оправдан практически и несет в себе элементы мифа. Они зачастую не дают человеку выбора в силу того, что являются основой жизнедеятельности определенной социальной группы и диктуются морально- этическими нормами, определяющими ее будничную деятельность. Правила привычного поведения представляют собой строго регламентированный набор знаковых сущностей, выражающих те или иные ценностные ориентиры и в соответствии с ними регуля-тивы поведенческих стратегий. При этом само понятие «правила привычного поведения» никак нельзя приравнивать к понятию «культурное поведение», потому как правила привычного поведения - это регулятивы, нормы поведения определенной социальной группы и маргинальных групп в том числе. Подобные социальные группы имеют свой свод правил и представлений о том, каких поведенческих стратегий надо придерживаться, чтобы успешно не только адаптироваться к своей специфической среде, но и успешно функционировать как члену данного сообщества. Говоря о правилах привычного поведения, можно говорить о «культурном поведении» в двух аспектах: 1) когда речь идет об общенациональной культуре целого этноса; 2) когда имеются в виду этикетные формы поведения.
Повседневные правила и обычаи представляют собой большое исследовательское поле, являясь одной из новейших областей гуманитарного знания, изученных фрагментарно и поверхностно, хотя представляют собой многогранные явления и включают в себя не только вербальный компонент, но и невербальный. Именно изучение невербального компонента и составляет новизну подобных исследований. Задачей данной статьи является попытка раскрыть сущность и отличительные особенности бытового национального поведения от других поведенческих форм.
Изучение национального невербального поведения осложнено тем, что оно тесно связано с телом человека, его физиологией, структурой, восприятием и отношением к нему у разных народов в разное время. Г.Е. Крейдлин отмечает, что язык тела является неотъемлемой и необходимой частью бытовой жизни [5; с.20]. Быт немыслим без проявления телесного, потому как большинство действий, которые производятся человеком, нацелены на обеспечение комфортного существования в определенной среде. Функции тела, его частей, а также невербальные акты коммуникации, в которых задействована та или иная часть тела, очень хорошо прослеживаются во фразеологических оборотах речи. Например, функция глаз, взгляда всегда подчеркивается практически во всех эмоционально окрашенных ситуациях. Возможно, это происходит потому, что органы зрения представляют собой самый важный орган чувств у человека, именно через зрительный канал человек получает максимум информации об окружающей действительности, ср.: глаза в глаза; бросать/кидать/ задержать взгляд; глаза разгорелись/ разбежа-лись; не сводить/ спускать глаз.
Говоря о невербальной коммуникативной традиции в любой национальной культуре, важно четко определить, насколько тема телесности и языка тела табуирована или открыта в данной культуре, каково его восприятие человеком-носителем данной культуры. Данный аспект чрезвычайно важен в исследованиях в рамках межкультурной коммуникации, т.к. правила привычного поведения конкретного народа как специфическая система постигается через коммуникацию, их знание обеспечивает успех коммуникации как таковой, т.е. данные понятия представляют собой неразрывное, сложное семантико-семиотическое единство.
По отношению к проявлению телесного в той или иной культуре можно судить о том, насколько невербальное поведение регламентировано различными правилами, насколько осознанно оно контролируется. Контроль над телом в русской национальной культуре тесно связан с изучением, во-первых, проксемики (пространственное распределение внутри жилья, распределение построек и др.); во-вторых, хронемики (т.е. функциональное распределение времени, его культурных и семиотических функциях); и, как следствие, положения человеческого тела в пространстве и времени, т.к. изучение двух вышеупомянутых категорий является принципиальным при исследовании человеческого тела и человеческого языка как одного из проявлений функционирования человеческого тела. Например, гендерные отношения (включая изучение семиотики тела как мужского так и женского), т.е. с установления семиотических оппозиций концептов «мужской»-«женский» и всего того содержания, которое включено в данные концепты, а также причины построения таковой, а не иной культурно-семиотической картины мира, и влияние подобных представлений на бытовое поведение этноса в целом. На наш взгляд, строгое распределение времени для разных видов деятельности, в том числе мужской и женской, в любой социальной группе определенного этноса есть не что иное как проявление этнических стереотипов бытового поведения.
Говоря о стереотипах, нужно отметить, что стереотип поведения - это абстракция, конструкт, которому присущи только самые общие черты, в той или иной степени проявляющиеся у всех членов коллектива, но он не всегда целиком и полностью воплощается в поведении каждого отдельного члена коллектива, т.е. план культурного поведенческого содержания практически всегда одинаков, но план выражения будет различен. Можно предположить, что программа стереотипного поведения равна, как минимум, сумме двух слагаемых: аксиологической составляющей и общеэтнического феноменологического опыта или картины мира данного народа (отметим, что одним из компонентов в этом случае является адаптация, которая выражается в последовательном постижении сути культурных обычаев через ритуал, т.е. культурной семиотики).
Средством выражения и хранения общеэтнического феноменологического опыта является традиция. Истоки и причина появления той или иной традиции могут быть утеряны, но сама традиция может передаваться и соблюдаться многими поколениями, играя основную роль в передаче картины мира. Как отмечают лингвисты, лексема «традиция» может употребляться в двух основных значениях: (1) «то, что переда-но/перешло/унаследовано от предшествующих поколений» и (2) «установившийся порядок в поведении, обычай» [4, с.75]. Различие между этими значениями в том, что им свойственна разная по объему временная семантика: в первом значении временной компонент несет исторический характер, т.е. имеется ссылка на смену многих поколений, а во втором случае указывается на устоявшуюся практику одного, двух или трех поколений [там же]. Далее можно определить значение слова «традиция» как «устоявшуюся практику», при этом в первом случае эта практика принадлежит неопределенно широкому кругу лиц (народу, этносу, сословию); во втором же случае это практика узкого круга лиц [там же].
Что же касается бытового поведения, то в данном случае традиция может одновременно реализовываться сразу в двух значениях: с одной стороны, оно реализует этническую культурную программу поведения с соблюдением большинства норм или регулятивов; с другой - каждая узкая социальная группа (предположим, семья) вырабатывает собственный, индивидуальный набор регулятивов в рамках языка культурного общения - «ойколета», который как бы «закрыт» для посторонних и может не соблюдаться последующими поколениями; даже сами члены этой группы не осознают своего поведения, т.к. являются частью быта и повседневности: от архитектурного оформления жилища до способов обще- ния с детьми и родственниками, распределения личного пространства. Они лишь придерживаются общих поведенческих тенденций, которых придерживается этническое большинство.
Бытовое поведение, как и его правила, не всегда выступает как «правильная» культурная форма, т.е. относится к сфере, которая принадлежит культуре, но не подчиняется ее правилам и не всегда отражает этикетные нормы данной культуры. Этикет практически всегда направлен на внешнюю сторону общения, отражает общественные нормы и ценности, в то время как бытовое поведение может не соблюдать ряд регуля-тивов, тем самым как бы упрощая и сокращая цепочку действий для достижения определенной цели, реализовывая тем самым те ценности, которых придерживается данный социальный круг людей. Бытовое поведение лишено условностей, без которых немыслимо поведение в больших социальных группах. По мнению исследователей А.К. Байбурина и А.Л. Топоркова, бытовое поведение отличается небольшой степенью семио-тичности, т.к. не требует использования специальных приемов, направленных на выявление, поддержание и обыгрывание статуса партнеров по коммуникативному акту [1, с.17]. Однако данное положение можно оспорить. Бытовое поведение есть отражение индивидуальности определенной узкой группы людей, и его семиотич-ность будет каждый раз реализовываться при столкновении с другими типами бытового поведения, а также при сопоставлении с ситуациями этикетного поведения. С другой стороны, бытовые формы поведения не включают адаптацию как компонент поведения и не носят столь ориентирующего характера, как этикетное поведение, и, как следствие, может показаться не столь семиотичным, если человек постоянно находится в данной среде. Формы бытового поведения выражают значение, которое понятно всем без исключения участникам коммуникативной ситуации. Бытовое поведение - это та сфера, в которой существуют прочные каузальные связи между означающим и означаемым.
Этикетное поведение, таким образом, может быть противопоставлено бытовому как идеальная модель человеческого поведения. Однако такая поведенческая модель в чистом виде реализуется реже, чем бытовые формы поведения, т.к., как уже упоминалось выше, этикетные формы поведения ориентированы большей частью на внешний социальный опыт индивида и адаптацию в малознакомых социальных группах, где этикетные формы воспринимаются как некий универсальный язык, который понятен всем включенным в коммуникацию. Он обеспечивает возникновение как можно большего количества взаимодействий индивидов с окружающим миром. Этикетные формы поведения носят ориети-рующий характер, но не столько для адресата, сколько для самого адресанта, который вовлекает других в сферу своих взаимодействий, а для этого поступает таким образом, чтобы вызвать определенную поведенческую реакцию, которая может быть вполне предсказуема и ожидаема. Этикетное поведение также отличается тем, что представляет собой набор готовых текстов-знаков на все случаи жизни и ответы на подобные тексты также вполне предсказуемы. Этикетные формы поведения сближаются с бытовыми правилами привычного поведения тогда, когда они обнаруживают родство с национальными стереотипами поведения, обычаями и традиционными обрядовыми формами. У многих народов этикет представляет собой в высшей степени ритуализированные формы поведения, включающие не столько вербальный, сколько невербальный компонент: у китайцев, к примеру, помимо пожатия руки гостя двумя руками хозяином, еще предполагается наклонить голову набок и слегка поклониться в знак особой признательности и уважения. Как видно, этикет устанавливает регулятивы для выбора правильных стратегий невербального поведения, причем такие ре-гулятивы могут нигде не фиксироваться документально, а носить бытовой характер. Это происходит в тех культурах, где связь этикетных форм поведения с национальными ценностными установками можно четко проследить (например, этикетное поведение японцев).
Таким образом, правила поведения людей–– это особый текст, полный смысла для тех, кто умеет читать эти своеобразные знаковые сюжеты. У каждого народа существуют свои общепринятые модели привычного поведения, прием- лемые в различных ситуациях. А так как эти модели несут определенную смысловую нагрузку, то они представляют собой некие тексты, которые подвергаются интерпретации со стороны воспринимающего и осмысляющего эти самые тексты человека. Модели поведения, как и другие явления культуры того или иного народа, уникальны и являются специфическими явлениями культуры. Будучи уникальными культурными явлениями конкретного народа, правила поведения – как бытовые, так и этикетные их формы – представляют собой специфические семиотические системы и постигаются через коммуникацию. Знание правил поведения обеспечивает успех коммуникации как таковой, а также установлению прочных межкультурных взаимодействий, основанных на понимании и уважении чужих культурных традиций.