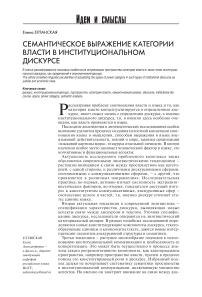Семантическое выражение категории власти в институциональном дискурсе
Автор: Елтанская Елена Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 5, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются языковые особенности актуализации пространства категории власти в таких типах институционального дискурса, как юридический и экономический дискурс.
Дискурс, институциональный дискурс, пространство, категория власти, семантический анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/170166938
IDR: 170166938
Текст научной статьи Семантическое выражение категории власти в институциональном дискурсе
Р ассматривая проблему соотношения власти и языка и то, как категория власти концептуализируется в определенном дискурсе, имеет смысл начать с определения дискурса, а именно институционального дискурса, т.к. в именно здесь особенно очевидно, как власть проявляется в языке.
Последние десятилетия в лингвистических исследованиях особое внимание уделяется процессу создания целостной концепции соотношения языка и мышления, способам выражения в языке вне-языковой действительности, знаний о мире, законам организации «языковой картины мира», тезауруса отдельной личности. В центре изучения особое место занимает человеческий фактор в языке, его когнитивные и функциональные аспекты.
Актуальность исследуемого проблемного комплекса также обусловлена современными лингвистическими тенденциями – растущим вниманием к связи между пространством как категорией, с одной стороны, и различными дискурсивными сферами, соотносимыми с коммуникативными сферами, – с другой, что проявляется в различных направлениях. Исследовательская практика, во-первых, активно изучает системность экстралинг-вистических факторов, во-вторых, показателен растущий интерес к конституентам коммуникативных, дискурсивных сфер – соотнесение целого и частей, т.к. именно дискурс уточняет статус единиц языка.
Вторая актуальная тенденция в современной лингвистике – спецификация характеристик дискурса, выявляющая новые аспекты связи между дискурсом и текстом. Уточняя спецификацию дискурса, исследователи опираются на лингвистический категориальный аппарат. В рамках подобных исследований определяются новые конституирующие компоненты дискурса, текстообразующие единицы и компоненты текста, даются новые интерпретации элементов дискурсивной структуры и семантики.
ЕЛТАНСКАЯ Елена
Третья тенденция – растущее многообразие подходов к истолкованию институциональной коммуникации и необходимость ее конкретизации. Это может быть осуществлено в процессе анализа такого репрезентативного компонента, как категориальное пространство, например пространство власти, причем в процессе поиска его конституирующей роли в дискурсе. Избранный подход далеко не исчерпывает систематику семантики пространства в институциональной коммуникации, включающую множество аспектов. Но именно он заостряет внимание на связи между дис- курсивными отношениями и простран-ством1.
Экономика и юриспруденция – это те сферы, те области знаний современника о мире, где особенно отчетливо проявляются языковая динамика, изменения в общественном сознании, ментальности носителя языка. Последнее, в свою очередь, имеет и социальную, и собственно лингвистическую обусловленность. Экономический и юридический лексикон современного человека объясняет актуальность в плане поставленной темы по нятия «языковая личность», ее структурных проблем, типологии, способов языко вого воплощения, методов и приемов описания.
Внимание к среде функционирования слова и ее участию в процессах тексто-образования связывается с термином «дискурс», правомерном на этапе перехода от лин гвистики текста как самодовлеющей системы к изучению текста в аспекте специфики человеческого бытия, взаимоотношения человека с миром и людьми, в аспекте лингвокультурологии.
Дискурс – одно из сложнейших научных понятий, вбирающее в себя не только лингвистические, но и экстралингвисти-ческие составляющие.
Институциональная составляющая – неотъемлемая часть механизма развития общества. Основное назначение и смысл институтов, как отмечает О.В. Иншаков, не в том, чтобы быть просто «правилами игры», а в функциональной организации общественных взаимодействий людей, их групп и сообществ. Институты создают правила, определяя одновременно возможности и ограничения, права и обязанности, роли и статусы. Изменение функциональных форм связей и отношений невозможно без соответствующих структурных изменений, что во взаимодействии создает механизм эволюции общества. Любое игнорирование роли и значения актуальных институциональных изменений, их несовместимость со структурными и организационными мерами по реформированию сообщества или группы изначально обрекают это сообщество или группу на неудачу2.
Институциональный дискурс представляет собой общение в заданных рамках статусно-ролевых отношений. По отношению к современному обществу, как отмечает В.И. Карасик, можно выделить следующие виды институционального дискурса: политический, дипломатический, административный, юридический, военный, педагогический, религиозный, мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический и массово-информационный3.
Статусно-ориентированный дискурс представляет собой институциональное общение, т.е. речевое взаимодействие представителей социальных групп или институтов друг с другом, с людьми, реализующими свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся общественных институтов, число которых определяется потребностями общества на конкретном этапе его развития.
С точки зрения социолингвистики дискурс – это общение людей, рассматриваемое с позиций их принадлежности к той или иной социальной группе или применительно к той или иной речеповеденческой ситуации, например, институциональное общение. Для определения типа институционального общения необходимо учитывать статусно-ролевые характеристики участников общения (судья – прокурор, судья – адвокат, прокурор – подсудимый, адвокат – подсудимый, судья – подсудимый; продавец – покупатель, консультант – клиент, партнеры, ведущие переговоры), цель общения (экономический дискурс – установление торговых отношений, получение прибыли; юридический дискурс – нормотворчество, совершенствование законодательства, правоприменительная практика), прототипное место общения (конференц-зал корпорации, магазин, рынок, тюрьма, зал судебных заседаний, парламент). Институциональный дискурс есть специализированная клишированная разновидность общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны общаться в соответствии с нор- мами данного социума, в котором существует ощущаемая участниками общения граница, выход за которую подрывает основы того или иного общественного института, так как, ошибаясь, человек нарушает весь процесс, разрушает систему обменов в обществе, вынуждая это общество применять против него определенные санкции за нарушение корпоративных правил1.
Всякому стремящемуся к воспроизводству институту нужен статус законности, который институт может приобрести только путем прочного закрепления за собой места в мире вещей. Институт сам предоставляет своим членам набор категорий – эталонов, аналогов или прототипов, с помощью которых они могут воспринимать и изучать окружающий мир. Данные категории должны оправдывать целесообразность вводимых институтом правил и норм, что должно способствовать его функционированию в легко узнаваемой узаконенной форме в течение длительного периода времени.
Функция института заключается в решении важной для группы задачи. Институты имеют структуру, упорядоченность, выде-ленность, устойчивость, специфичность.
Институциональность, однако, носит градуальный характер. Ядром институционального дискурса является общение базовой пары участников коммуникации – например, экономиста и его коллеги, юриста и клиента.
Институциональный дискурс строится по определенному шаблону, но степень трафаретности различных типов и жанров этого дискурса различна, т.к. в реальной жизни прототипный порядок дискурса часто нарушается. Приведем примеры экономического и юридического дискурса, в основе которых лежит схема необходимых и достаточных коммуникативных действий, связанных, например, с судебным заседанием и ведением переговоров. Экономический дискурс – ведение переговоров: 1) партнеров приглашают в определенное время в определенное место, 2) партнеры занимают свои места и достают документы, 3) ведется обсуждение, 4) принимаются общие решения, 5) подписывается договор. Юридический дискурс: 1) судебный пристав объявляет о начале судебного заседания, 2) адвокат и прокурор выступают с вступительной речью, 3) судья заслушивает свидетельские показания, 4) адвокаты сторон выступают с заключительной речью, 5) присяжные выносят вердикт, 6) судья зачитывает приговор суда. Фактически данные схемы нередко нарушаются, поскольку деловые переговоры могут нарушаться телефонными звонками, секретари или помощники могут заходить в кабинет для предоставления новой информации или для уточнения некоторых деталей, необходимых документов может не оказаться в распоряжении, или, например, в ходе судебного заседания могут появиться новые свидетели и/или дополнительная информация, требующая проверки, в результате чего слушание дела может быть отложено. Все участники общения привыкли к отклонениям и накладкам и реагируют на них нормально. В данном случае уместно говорить о вероятности существования мягких и жестких разновидностей институционального дискурса. Первый приведенный пример иллюстрирует мягкую разновидность коммуникативного события, структура которого может изменяться, но основные компоненты – обсуждение и подписание контракта – не могут исчезнуть. Примером жесткой разновидности институционального дискурса как раз и является судебное заседание, структура которого имеет жесткий (ритуальный) порядок2.
Переход от бытового дискурса к институциональному связан с определенными трудностями. В условиях обыденного общения все коммуниканты хорошо знают друг друга, разговаривают о конкретных, знакомых вещах и им не обязательно вести беседу о чем-то сложном, требующем сопутствующих профессиональных объяснений, поэтому разговор происходит в сокращенном коде, который имеет контекстную зависимость. Однако когда человек выходит за рамки обыденного общения, он уже в меньшей степени зависит от контекста, т.к., сталкиваясь с незнакомыми людьми, человек должен следовать знакомой схеме фонового общения.
Дискурс являет собой продуцирование знаний посредством языка, но сам дис- курс является продуктом определенной деятельности: дискурсивная деятельность – это практика продуцированных значений. Любая деятельность имеет дискурсивный аспект, поэтому дискурс является составляющей всех видов социальной деятельности и влияет на эту деятельность. Каждый дискурс создает систему координат, лишь внутри которой он имеет смысл, и любой говорящий, участвующий в развертывании дискурса, должен действовать с позиции субъекта дискурса. Например, мы лично можем и не верить в превосходство Запада, но если мы используем дискурс «Запад и остальные» (the West and the Rest), то обнаруживается, что мы говорим с позиции признания Запада высшей цивилизацией, т.к. в данном случае Запад противопоставлен остальным с позиции доминирующей власти1.
Дискурс аналогичен тому, что социологи называют идеологией, – набору утверждений или верований, которые продуцируют знание, служащее интересам конкретной группы или класса. Фуко, например, негативно относится к снижению роли дискурса до отражения интересов определенного класса. Но это не значит, что дискурс идеологически нейтрален или невинен2.
В рамках современной философской идеологии власть все чаще отождествляется с языком, а формирование идентичности связывается с воздействием власти. И если признавать в человеке наличие особой индивидуальности как составляющей, то ее выражение всегда обращается к языку, который приходит извне. Следовательно, возникает проблема подчинения индивидуального дискурса дискурсу власти.
По мнению Е. Шейгал, власть в дискурсе может выступать в различных ипостасях:
как содержательная, когнитивная, социолингвистическая, риторическая и прагматическая категория. Власть как содержательная категория составляет предмет общения, тему разговора, и в этом плане данная категория выступает как проявление языковой концептуализации власти.
Как когнитивная категория власть представляет собой то, что иначе формулируется как «власть языка» – способность языка навязывать мировидение, создавать языковую интерпретацию картины мира.
Воздействуя на существующую в сознании социума картину мира, власть выступает как риторическая категория, связанная со стратегиями фасцинативности, манипуляции и пр. Это особенно ярко проявляется в таких сферах коммуникации, как реклама, пропаганда и т.п.
Власть как социолингвистическая категория тесно связана с категорией социального статуса и выступает как проявление в общении социальной власти участника коммуникации с более высоким социальным статусом. Например, в коммуникации людей с образованием и достаточно высоким социальным статусом (топ-менеджеры, юристы, врачи, профессора) проявляется механизм оказания давления и осуществления власти. Характерной чертой данного механизма является интенсивное использование профессиональной терминологии и жаргона3. Кроме того, подвергается деривационным изменениям семантическая структура некоторых частей речи, результатом чего является формирование новых значений глаголов, предлогов и переход этих слов из одной лексико-семантической группы в другую4.
-
3 Шейгал Е. Власть как концепт и категория дискурса // www.gumer.info.pdf
-
4 Шамне Н.Л., Елтанская Е.А. Указ. соч.