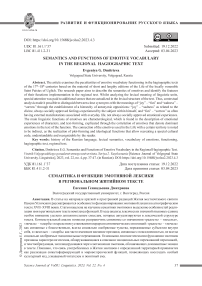Семантика и функции эмотивной лексики в региональном житийном тексте
Автор: Дмитриева Е.Г.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 4 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье на материале краткой и пространной редакций Жития местночтимого святого Паисия Угличского рассматриваются особенности функционирования эмотивной лексики в агиографическом тексте XVII-XVIII веков. Статья нацелена на изучение семантики эмотивов и выделение особенностей реализации ими в региональном тексте комплекса функций. В ходе анализа лексических значений языковых единиц особое внимание уделено дополнительным смыслам, которые актуализируются в лексической структуре текста. Контекстуальный анализ позволил разграничить синонимы со значениями «радость» - «веселье», «печаль» - «скорбь» посредством установления иерархии антонимических оппозиций: «радость» - «печаль» как связанные с божественным, всегда социально одобряемые чувства, переживаемые субъектом внутри себя, и «веселье» - «скорбь» как часто имеющие внешние признаки, связанные с повседневностью, не всегда социально одобряемые эмоциональные переживания. Основными лингвистическими функциями эмотивов признаны характерологическая, обнаруживающаяся в описании эмоциональных переживаний персонажей, и текстообразующая, эксплицирующаяся через соотношение эмотивов, обозначающих доминантные эмоции в тексте. Показано, что связь употребленных в Житии эмотивов с определенной территорией проявляется как реализация сюжетоформирующей и мировоззренческой функций, позволяющих воссоздать особый культурный код, узнаваемый читателем и понятный ему.
История русского языка, лексическая семантика, лексика эмоций, функционирование, житийный текст, региональный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/149143746
IDR: 149143746 | УДК: 81.161.1'37 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.4.3
Текст научной статьи Семантика и функции эмотивной лексики в региональном житийном тексте
DOI:
Описание территориальной дифференциации языка остается в центре внимания отечественных и зарубежных лингвистов в течение длительного времени. В последние десятилетия, помимо исследований говоров, ученые обратились к изучению региональных особенностей и других разновидностей общенародного языка, как результат было введено понятие региолекта [Трубинский, 1991; Герд, 1998; 2001], а такой признак литературного языка, как единство на всей территории распространения, в современной науке подвергся уточнению: принято говорить о возможности территориального варьирования литературных норм [Крысин, 2007], актуализировано понятие регионального варианта литературного языка [Гельгардт, 1959] (подробнее о термине см.: [Бохиева, Степанова, 2012, с. 138–139]).
Термин «региолект» не получил однозначной трактовки, статус региолектов в современной социолингвистической системе русского языка не вполне ясен [Ерофеева, 2020, с. 599], однако при описании соответствующих языковых явлений подчеркивается два важных момента: во-первых, «наиболее очевидно проявление регионально маркированных языковых черт на лексическом уровне» [Теркулов, 2018, с. 11]; во-вторых, региолект «представлен в фольклорных, художественных и публицистических текстах» [Супрун, 2020, с. 841].
Кроме того, в исследованиях прочно утвердилось понятие «региональный (локальный) текст». Такой текст связывается с определенной территорией, характеризуется наличием каких-либо региональных черт (регионализмов) и «представляет собой уникальный конструкт, в основу которого заложена совокупность закрепленных традицией, прошедших практику языковых коммуникаций, устойчивых значений, которые спонтанно собираются или рекомбинируются в зависимости от тех целей, которые ставятся человеком и обществом» [Храпова, Каранда-шов, 2018, с. 130].
В качестве материала для анализа ученые используют не только фольклорные, художественные и публицистические произведения, но и тексты других стилей разной временной отнесенности (см., например, исследования деловой письменности: [Документы Войска Донского..., 2020]). Региональные черты таких текстов в большинстве случаев обусловлены речевым и социально-культурным опытом их создателей, проживающих или проживавших на определенной территории. Так, рассматривая языковые средства выражения региональной самоидентификации автора в литературном тексте, лингвисты обращают внимание на локализацию пространства средствами языка и речи, использование онимов, регионально окрашенных прецедентных единиц, реализацию в текстах оппозиции «свой – чужой» [Баскакова, 2012, c. 170].
В этой связи употребление термина «региональный (локальный) текст» по отношению к агиографическим памятникам условно, поскольку «когда говорят о региональной агиографической традиции, скорее, имеют в виду не столько место создания жития, сколько место духовного подвига святого» [Семячко, 2005, c. 123–124]. Тем не менее историко-культурологические исследования агиографических текстов, связанных с определенной территорией, позволяют вычленить характерные особенности подобного рода произведений: ориентацию на создание культа местночтимого святого, отражение истории повседневности [Лившиц, 2012, c. 11]; показывают, как православная семантика формирует идентичность региона [Шер, 2014, c. 99].
Региональная специфика агиографического текста формируется прежде всего на лексическом уровне, в этой связи перспективным представляется выявление семантических и функциональных особенностей слов одной тематической группы, в частности лексики эмоций, в текстах региональных (локальных) житий. Исследование нацелено на верификацию гипотезы о том, что специфика эмотивных лексем проявляется в наборе функций, реализующихся ими в житии.
Материал и методы
Материалом для работы послужило Житие Паисия Угличского – памятник местной углической агиографии XVII в., представляющий собой жизнеописание преп. Паисия (в миру Павла Гавренева), основавшего, согласно Житию и бытующему в Угличе преданию, во второй половине XV в. Угличский Покровский монастырь [Сосновцева, 2020, с. 65]. Житие Паисия Угличского известно в двух основных редакциях, выделенных В.О. Ключевским, – краткой и пространной. Согласно мнению М.Д. Каган, краткая редакция Жития была создана раньше пространной, на рубеже XVI–XVII веков. Она связывается с подготовкой канонизации святого, что объясняет сжатый характер и отсутствие интереса к биографическим деталям [Каган, 1988, с. 317– 318]. Однако самые ранние из известных списков краткой редакции Жития относятся ко второй половине XVII в., и на сегодняшний день никаких убедительных свидетельств того, что Житие возникло раньше, не обнаружено [Сосновцева, 2020, с. 66].
Точное время появления пространной редакции Жития неизвестно, однако рукописи, в которых она читается, датируются второй половиной XVIII–XIX веком. Пространная редакция представляет собой позднейшее распространение краткой редакции за счет включения в ее текст обширных вставок, описывающих как некоторые подробности биографии преподобного, так и эпизоды монастырской истории [Сосновцева, 2020, с. 71].
В статье использованы древнейший из известных списков краткой редакции, датируемый серединой XVII в., а также основной вариант пространной редакции Жития Паисия Угличского, сохранившийся в нескольких списках второй половины XVIII века.
В центре нашего внимания находятся функции эмотивной лексики, определяющие место данной лексической группы в репрезентации представлений о нравственном идеале: собственно лингвистические – характерологическая, текстообразующая, лингвокультурная и экстралингвистические – сюжетоформирующая, дидактическая, мировоззренческая (подробнее о терминах см.: [Дмитриева, 2020]).
Исследование проведено с опорой на положения комплексного подхода, сформулированные в трудах С.П. Лопушанской и ее учеников: языковой факт рассматривается с учетом совокупности системных и функциональных, парадигматических и синтагматических характеристик слова, взаимосвязи языка и мышления [Лопушанская, 1996; Семантика древнерусского глагола..., 2015; Косова, Шеп-тухина, 2022]. В качестве основных в работе использованы методы компонентного, контекстуального и лингвокультурного анализа.
Результаты и обсуждение
Эмоциональный фон Жития Паисия Угличского очерчен рядом ключевых эмоций (в скобках указано количество случаев употребления лексем с соответствующей семантикой в краткой и пространной редакциях Жития): радость (30/73), печаль (24/36), любовь (19/36), удивление (6/40), страх (3/17). Лексические единицы, обозначающие каждое из названных чувств, имеют смысловые оттенки и в тексте включены в систему семантических соответствий и оппозиций. Это не значит, что в рассматриваемом житии нет упоминаний о других чувствах, агиограф называет такие значимые в жизни человека переживания, как надежда, вера, забота, благоговение, гнев, стыд, ненависть и др. (в совокупности 14 и 61 случай употребления лексем в краткой и пространной редакции соответственно), однако частотность употребления лексем с данной семантикой гораздо ниже, чем частотность лексических единиц, обозначающих радость, печаль, любовь, удивление, страх.
Эмоциональной доминантой текста (подробнее о термине см.: [Ионова, 2023]) является чувство радости. Оно обозначено лексемами с корнями - весел -, - рад -, - сме -.
Происхождение корня -весел- (первоначально *ves-) представляется исследователям неясным, этимологические параллели находят в готском языке в словах со значениями «радоваться», «жить роскошно (припеваючи)», в латинском vescor – «питаюсь», «пирую», «наслаждаюсь» (Черных, т. 1, c. 145), в латышском vesels (vęsęls) – «здоровый, целый, невредимый» (РЭС, с. 18); рефлексы *vesel-в славянских языках могут обозначать изобилие, свадебное веселье как залог здоровья и благополучия молодых, возрождение мира весной (РЭС, с. 16). Славянский корень -рад- не имеет родственных связей в других индоевропейских языках, за исключением некоторых языков германской группы, в которых встречаются лексемы со схожими значениями – «радостный», «веселый», «становиться веселым, ясным» (Черных, т. 2, c. 93). Корень -сме- восходит к индоевропейскому *(s)mei-со значением «смеяться, улыбаться» (Черных, т. 2, c. 179).
Глагол веселити в донациональный период развития русского языка имел одно значение «веселить, радовать» (СРЯ XI–XVII, вып. 2, с. 111), постфиксальное образование веселитися могло выступать в двух значениях: «веселиться, радоваться» и «процветать, быть изобильным» (СРЯ XI–XVII, вып. 2, с. 111). Словарь фиксирует семантические дублеты данных лексем: веселовати / веселоватися , весельствовати , веселятися (СРЯ XI–XVII, вып 2, с. 111–113). Веселятися также имел значение «устраивать веселье, пировать» (СРЯ XI–XVII, вып. 2, с. 113). Полисемант веселье мог выступать в текстах в значениях: «веселье, радость», «развлечение, увеселение», «свадьба» (СРЯ XI–XVII, вып. 2, с. 112).
Глагол радоватися имел значения «радоваться, веселиться», «находить удовольствие в чем-л., любить что-л.», в формах инфинитива и императива мог использоваться в качестве приветствия и т. д. (СРЯ XI–XVII, вып. 21, с. 123–124). Существительное радость характеризовалось следующей семантикой: «радость, а также событие, лицо, вызывающие это чувство», «свадьба, бракосочетание», «веселье, ликование», «милость» (СРЯ XI–XVII, вып. 21, с. 125).
Существительное смэх фиксируется в исторических словарях как полисемант: «смех», «нечто смешное, забавное», «шутки, балагурство», «насмешка; предмет смеха, на- смешки» (СРЯ XI–XVII, вып. 25, с. 185–186), а глагол смэятися приводится в значениях «смеяться», «насмехаться», «беззастенчиво обманывать» (СРЯ XI–XVII, вып. 25, с. 192). Христианство осуждало смех и связывало его с близкой бедой из-за тесной связи с возможным пороком (СРМ, т. 2, c. 270).
Дефиниции в исторических словарях показывают, что глаголы веселитися – радоватися и существительные веселье – радость являлись синонимами. В «Словаре русской ментальности» веселье и радость противопоставляются как «жизнерадостное беззаботное состояние, переживаемое совместно с другими людьми» (СРМ, т. 1, c. 91) и «личное душевное расположение к удовольствию» (СРМ, т. 2, c. 152); «радость испытывают в соборной общности, ради которого она возникает во всеобщем веселье» (СРМ, т. 2, c. 152).
В житийных контекстах реализуются смысловые оттенки, различающие данные слова.
Радость имеет божественную природу и связана с именем Бога:
-
(1) И тэм8 райскиz двери t ǀ вер8ѕеша быша, и в8нидоша радую ǀ щесz в радость Gа своего (ЖПУкр, л. 16 об.).
Радость – проявление божественной любви и благодати. Рефреном выступает в описаниях чудес святого фраза: радуzсz и хвалz бGа и uгодника его . Именно с приветственным радуйсz обращается к святому Паисию ангел:
-
(2) радуйсz, паисэе uгодниче х7въ... (ЖПУкр, л. 21).
В русской лингвокультуре при встрече принято адресовать другому человеку пожелание здоровья ( здравствуй ( те ) ! ) – как высшей ценности, в житийных текстах сходное значение приобретает радость, символизирующая получение божественного благословения.
Веселье связано с божественным, поскольку может быть атрибутом жизни вечной:
-
(3) но паче наде ǀ жею будущихъ блг7ъ веселzшесz (ЖПУкр, л. 26 об.); и мира сего печаль ǀ остави, на вэчное веселiе прiиде (ЖПУкр, л. 29).
Связь с древней семантикой корня, конкретным значением празднования, по-видимому, требовала дополнительных уточнений, когда речь шла о душевных переживаниях:
-
(4) И пріи ǀ дэ же прпдбныи oц7ъ нашъ паvсіи на µ ǀ глэчь, ѕэло радуzсz и веселzсz дше7ю ǀ своею, имэz же в сердцы своемъ яви ǀ вшагосz ему знаменіе (ЖПУпр, л. 236 об.);
-
(5) Днесь, братіе, веселитисz намъ лэпо ǀ есть д \ховнэ и праздновати (ЖПУпр, л. 308 об.).
В Житии Паисия Угличского представлены случаи противопоставления радости и веселья:
-
(6) В8мэсто телеснаго покоz, зел8ны ǀ z труды и болезни · в8мэсто сна ǀ вс8енощное стоzние · и в8мэсто весе ǀ лиz радостнотворн8 ыи плачь · ǀ и в8мэсто чlческих молв8ъ выну ǀ з8 бGомъ бесэдованiе (ЖПУкр, л. 16 об.).
Разграничить радость и веселье можно по признаку социальной оценки: лексемы с корнем - рад - всегда выражают положительную оценку, а образования с корнем - весел - – амбивалентны.
При этом слова с корнем - сме - всегда характеризуют отрицательное оцениваемое поведение:
-
(7) игры же и смэхотво ǀ р8ных словесъ · якwже есть обы ǀ чай дэтемъ ненавидzше (ЖПУкр, л. 18).
Подробно описывается в обеих редакциях Жития случай с боярином, который, увидев преподобного работающим в саду, посмеялся:
-
(8) посмэzвсz прпдбному tц\у ǀ въ срдцы своемъ, и похули егw ... послэ ǀ хулнаго своегw словеси над бл\же ǀ ннымъ oц\эмъ и смэха своегw ǀ тогда бжіимъ гнэвомъ поражен (ЖПУпр, л. 296 об.).
Отметим, что радость – веселье – смех противопоставлены и по характеру процесса: радость – внутренне переживаемое чувство, веселье – и чувство, и его внешнее проявление, смех – внешняя демонстрация эмоции (не обязательно радости).
По-видимому, в житийном тексте представлена некая иерархия эмоций, соотносящаяся с субъектом эмоциональных переживаний: радость как чувство более глубокое прежде всего переживается праведниками, веселье свойственно широкой палитре положительных персонажей, смех сопутствует изображению грешников. Описывая эмоции, агиограф скрыто поучает своих читателей, а рассма- триваемые лексемы одновременно выполняет характерологическую, лингвокультурную и дидактическую функции.
Противоположная (отрицательная) эмоция печали, страдания выражена лексемами с корнями - печ -, - скорб -.
Существительное печаль этимологически связано с глаголом печь (Черных, т. 2, c. 28), а лексема скорбь – со словами ущерб , щербатый (Черных, т. 2, c. 171).
Слово скорбь , как и синонимичные однокоренные образования скорбэние и скорбление , в памятниках письменности сочетало в многочисленных оттенках своих значений абстрактную и конкретную семантику: «душевное страдание, глубокая печаль, скорбь», «телесные страдания, боль; мука, мучение», «болезнь; телесный недуг, нездоровье», «беда, несчастье», «тяготы, лишения, нужда», «досаждение, беспокойство, смущение», «огорчение, досада, сожаление», «обида, притеснение; угнетение», «скорбные вопли, жалобы, мольбы о сострадании», «заботы, тревоги, хлопоты о чем-л.» (СРЯ XI–XVII, вып. 24, с. 238–239).
Существительное печаль имело схожие значения: «забота, постоянное попечение», «физические страдания, болезнь», «несчастье, беда», «угнетенное состояние, чувство скорби, горя; печаль тоска», «неприятная черта, свойство характера» (СРЯ XI–XVII, вып. 15, с. 32–33). Показательно, что однокоренные лексемы печалование – «забота, попечение», «ходатайство, хлопоты; посредничество» (СРЯ XI–XVII, вып. 15, с. 31), печа – «забота, попечение, беспокойство» (СРЯ XI–XVII, вып. 15, с. 31) и печалие – «забота, попечение, беспокойство» (СРЯ XI–XVII, вып. 15, с. 31) не имели эмотивного значения.
Глагол скорбэти, в отличие от глаголов скорбэтися – «горевать, печалиться, скорбеть» (СРЯ XI–XVII, вып. 24, с. 236) и скорбити – «причинять боль, страдание» (СРЯ XI–XVII, вып. 24, с. 236), характеризовался многозначностью: «горевать, печалиться, скорбеть», «печалиться, заботиться о ком-, чем-л.», «болеть, страдать, мучиться чем-л.», «тяготиться чем-л.», «обижаться, досадовать на кого-л.», «жаловаться, молить о сострадании» (СРЯ XI– XVII, вып. 24, с. 236). В текстах письменных памятников отмечено несколько глагольных образований от корня -печ- с набором сходных значений: печалити – «печалить, огорчать, тревожить»; печаловати – «скорбеть, печалиться, сожалеть, горевать», «иметь попечение, заботиться», «ходатайствовать, просить за кого-л.», «мучить, угнетать»; печаловатися – «скорбеть, печалиться, сожалеть», «иметь попечение, заботиться, беспокоиться», «ходатайствовать, просить за кого-л.»; печальновати – «печалиться, горевать» (СРЯ XI–XVII, вып. 15, с. 31–33).
При наличии общего семантического компонента ‘эмоциональное состояние’ своеобразным ассоциативным фоном выступают значения «физическое состояние (болезнь)» для лексем с корнем - скорб - и «социальные отношения (забота)» для слов с корневой морфемой - печ -.
Авторы «Словаря русской ментальности» сближают печаль и скорбь, называя оба состояния душевной заботой, и противопоставляют во временном плане: печаль вызывает сожаления о прошлом (СРМ, т. 2, c. 19), а скорбь может быть вызвана разлукой, разъединением, распадом связей в настоящем (СРМ, т. 2, c. 248).
В Житии обнаруживаются различия в эмотивных значениях этих существительных. Скорбь и печаль мыслятся как дискретные состояния, что подтверждается реализованной возможностью образовывать формы множественного числа у называющих их лексем:
-
(9) вэсте ǀ бо яко мнг7ими ск8орбьми подо ǀ баетъ нам7 внити в8 црс7тво нбс7ное... (ЖПУкр, л. 24);
-
(10) яко ǀ же нэкто t дал7нихъ t чюжих стран ǀǀ во свое tч7ество приходz, и нико ǀ еzже печали имzше · но паче наде ǀ жею будущихъ бл7гъ веселzшесz (ЖПУкр, л. 26 об.–27).
Печаль может мыслиться и как длительное эмоциональное состояние, среднее по интенсивности:
-
(11) видэшв7и ǀ же родители его юна суща в8 толи ǀ це воздержанiи в8 печали бzху о нем8 (ЖПУкр, л. 18 об).
Скорбь, обладая высокой степенью интенсивности, находит внешнее выражение:
-
(12) и п ǀ рихож8даху uбо к8 нему братiz ǀ всz, видэв8ше его изнемогаю ǀ ща · и ко г7у хотzща tити · ско ǀ рбzше и рыдающе... ст7ыи же рече к8 нимъ: ǀ · не скор8бите о семъ, братиz (ЖПУкр, л. 25 об.–26).
Частотны контексты, в которых существительные скорбь и печаль употребляются как однородные члены предложения, связанные соединительным союзом:
-
(13) и пребысть в8 скорби и пе ǀ чали велице времz немало (ЖПУкр, л. 37 об.); въ велицэ скорби ǀ и печали w немъ бэста (ЖПУпр, л. 292 об.).
Представляется, что подобное употребление призвано передать чувства высокой интенсивности. Использование интенсификаторов ( велицэ , времz немало и т. п.) при эмотивной лексике в целом характерно для житийных текстов (см. об этом: [Дмитриева, 2018]).
Внешним проявлением печали и скорби в житии выступает плач. Его описания часто встречаются в анализируемом житийном тексте, например:
-
(14) Тогдаже всz братіz ǀ t жалости великіz слезы аки реку пролі ǀ zша, а наипаче tцъ прпдбныи касіzнъ ǀ t великіz теплотый своегw срдца и лю ǀ б’ве ко ст\ому слезы испустивъ (ЖПУпр, л. 268 об.).
В отличие от современных представлений, в русской христианской традиции плач – это не просто внешнее проявление эмоций (чаще отрицательных), а знак душевного очищения, следовательно, приближения к Богу. Слезная мольба, обращенная к Богу или святому, – непременное условие чудесного исцеления:
-
(15) он8 же молzсz со слеѕа ǀ ми о исцэлении своемъ (ЖПУкр, л. 33 об.); и молzсz со слезами о исцэ ǀ ленiи д8щери своеz (ЖПУкр, л. 33) и т. п.
Да и сам святой при жизни подает пример такой молитвы:
-
(16) Прпдбный же oц\ъ вшед в8 келлію ǀ свою, и затворивсz единъ, и начатъ ǀ гс\деви со слэзами многими молити ǀ сz (ЖПУпр, л. 239).
Именно с этих позиций становится понятным выражение радостнотвор8ныи плачь (см. пример (6)), которое отражает непривычную для носителя современного русского языка взаимосвязь: не слезы радости (следствие), а слезы очищения, дающего радость (причина).
В анализируемом тексте складываются семантические оппозиции: веселье – скорбь (конкретно оформленные свойства мирской жизни, имеющие бытовые проявления) и радость – печаль (характеристики духовного бытия, ориентированного на подготовку к жизни вечной).
В обеих редакциях анализируемого Жития доминирующие в количественном и смысловом отношении лексемы со значением радости / печали и их проявлений дополняются существительными, прилагательными и глаголами, называющими эмоции страха и удивления. Они оказываются контекстуально близкими, поскольку чаще всего выражают переживания от столкновения с чудесным, божественным:
-
(17) И сіz видэвше с\тіи ǀ oц\ы, и падоша на землю ницъ t славы ǀ пречтсыz влдчицы и црz всэхъ, и трепе ǀ тніи бывше, якw внэ себэ t страха (ЖПУпр, л. 246 об.);
-
(18) И тогда W оµжаснаго чю ǀ дэси и страшнаго наказаніz стагw ǀ oца явивсz бо премилостивыи oц\ъ ǀ нашъ и чюдотворецъ великіи паvсіи (ЖПУпр, л. 298 об.);
-
(19) ...пасти хртсо\имэнитое ǀ стадо, прпдбнымъ oц\эмъ добрэ собра ǀ ное во страсэ б\жіи (ЖПУпр, л. 267).
Сложные эмоции автор Жития «расщепляет» на знакомые для читателя составляющие:
-
(20) Слышав8 же прпдбныи паисэz г7лы t аг7гла со стра ǀ хом и радостію, бл7годарныz ǀ мл7твы воз8сылаz бг7у (ЖПУкр, л. 21 об.).
Таким образом, эмотивные лексемы не только характеризуют персонажей Жития, являются средством выражения ценностных ориентиров агиографа, но и выполняют текстообразующую функцию: они эксплицируют основополагающую антитезу, противопоставляющую наш мир – обитель скорби, страха и печали – и мир горний, в котором человека ждет радость настоящего бытия. Святой же предстает проводником, помогающим найти путь из одного мира в другой.
Агиограф использует лексику эмоций и в сюжетоформирующей функции. Если эмо-тивы, реализующие характерологическую, текстообразующую и дидактическую функции, транслируют универсальные смыслы, то сюжетоформирующая функция связана с развертыванием повествования не только о жизни святого, но и об истории монастыря и города.
Так, описывая события большого пожара в Угличе, автор объясняет чудесное избавление города от огня следующим образом:
-
(21) И ǀ тогда oгнь якw оµстыдесz wбра ǀ за престыz бцды чюдотворнаго и то ǀ ликихъ прпдбныхъ мужей и сщ\8еннослу ǀ житель ǀǀ цр\ковныхъ и в8скоре оµгаси свое лютое ǀ пламz (ЖПУпр, л. 259–259 об.).
Опора на события из истории Углича конкретизирует образ святого в сознании читателя-земляка, делая его «своим», родным, близким и создает особую эмоциональную атмосферу сопереживания, заставляя острее понимать чувства, которые испытывали герои. Подобная «конкретизация» чувств сопровождается реализацией мировоззренческой функции эмотивной лексики, поскольку отражает особенности восприятия человеком окружающей действительности.
Выводы
Изображение внутреннего мира персонажей является важной частью житийного повествования. В центре внимания агиографа находится ограниченный набор эмоций: радость, печаль, любовь, страх, удивление, которые выражаются устойчиво повторяющимися лексическими единицами. Упоминания других эмоциональных переживаний (надежда, вера, забота, благоговение, гнев, стыд, ненависть и др.) встречаются гораздо реже.
Из числа частотных эмоций обычно одна или две доминирующие, это проявляется не только в значимости их роли в раскрытии замысла автора, но в высокой употребительности лексических единиц, их выражающих. В Житии Паисия Угличского это переживания радости и печали. Состав лексики, номинирующей эти эмоции, также ограничен и узнаваем. Сложные эмоциональные состояния могут «расщепляться» на простые составляющие, например, благоговение – это одновременно радость и страх. Такая простота обманчива, поскольку в агиографическом тексте эмотив-ные лексемы включаются в систему семантических корреляций и оппозиций, актуализируя новые смыслы. Во многом этому способствует богатство текстовых функций, которые они реализуют: эмотивы характеризуют (харак- терологическая функция), эксплицируют смыслы, являющиеся основой для построения текста (текстообразующая функция), поучают и обучают читателя (дидактическая функция).
Особенности реализации эмотивами экстралингвистических функций (сюжетоформирующей и мировоззренческой) позволяют говорить о косвенном участии лексики эмоций в отражении региональной закрепленности текста. Такое использование анализируемых языковых единиц сопровождается «кон-кретизацией» семантики лексем на основе контекстуально устанавливаемой связи с историческими персоналиями, событиями и реалиями, создает «домашнюю» эмоциональную атмосферу, узнаваемый культурный код, а местный («свой») святой мыслится как надежный защитник и помощник в преодолении житейских трудностей.
Список литературы Семантика и функции эмотивной лексики в региональном житийном тексте
- Баскакова В. П., 2012. Лингвистические средства выражения региональной самоидентификации автора в тексте // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. № 1 (15) С. 169-173.
- Бохиева М. В., Степанова И. Ж., 2012. Региональное варьирование русского языка в Забайкалье: вопросы стратификации // Вестник НГУ Серия: История, филология. Т. 11, вып. 9: Филология. С. 137-143.
- Гельгардт Р. Р., 1959. О литературном языке в географической проекции // Вопросы языкознания. № 3. С. 95-103.
- Герд А. С., 1998. Диалект - региолект - просторечие // Русский язык в его функционировании: тез. докл. Междунар. конф. М.: Рус. слов. С. 20-21.
- Герд А. С., 2001. Введение в этнолингвистику: курс лекций и хрестоматия. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. 488 с.
- Документы Войска Донского XVIII века: лингвистическое описание и тексты, 2020 / О. А. Горбань, М. В. Косова, Е. М. Шепту-хина, Е. Г. Дмитриева, И. А. Сафонова; под общ. ред. О. А. Горбань. Волгоград: Изд-во ВолГУ. 464 с.
- Дмитриева Е. Г., 2018. Способы указания на интенсивность эмоционального переживания в житийных текстах синодального периода // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 17, № 1. С. 44-51. DOI: https://doi.org/10.15688/ jvolsu2.2018.1.5
- Дмитриева Е. Г., 2020. Функции эмотивной лексики как средства реализации религиозно-нравственного идеала в житийных текстах XVIII-XX веков // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Lingüistica Rossica. № 19. С. 41-52. DOI: https:// doi.org/10.18778/1731-8025.19.04
- Ерофеева Е. В., 2020. Региолект как континуум // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. Т. 17, вып. 4. С. 596-614. DOI: https://doi.org/10.21638/ spbu09.2020.407
- Ионова С. В., 2023. Эмоциональная доминанта текста: некоторые лингвистические аспекты исследования // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 22, № 1. С. 13-27. DOI: https:// doi.org/10.15688/jvolsu2.2023.1.2
- Каган М. Д., 1988. Житие Паисия Угличского // Словарь книжников и книжности Древней Руси / отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние. Вып. 2, ч. 1. С. 317-320.
- Косова М. В., Шептухина Е. М., 2022. Методологические положения лингвистической концепции профессора С.П. Лопушанской: новые сферы применения // Слово и текст в синхронии и диахронии. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 26-48.
- Крысин Л. П., 2007. Русская литературная норма и современная речевая практика // Русский язык в научном освещении. № 2 (14). С. 5-17.
- Лифшиц А. Л., 2012. «Житие Иродиона Илоезер-ского» (проблемы соотношения локального агиографического текста и локальной истории) // Вестник Томского государственного университета. № 357. С. 11-14.
- Лопушанская С. П., 1996. Семантическая модуляция как речемыслительный процесс // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Филология. Вып. 1. С. 6-13.
- Семантика древнерусского глагола: синхронно-диахронический аспект: коллектив. моногр., 2015 / О. А. Горбань, Е. Г. Дмитриева, М. В. Косова и др. ; отв. ред. Е. М. Шептухина. М.: ФЛИНТА: Наука. 352 с.
- Семячко С. А., 2005. Проблемы изучения региональных агиографических традиций (на примере вологодской агиографии) // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 122-142.
- Сосновцева Е. Г., 2020. Житие Паисия Угличского: Исследования и тексты. М.: Изд. дом ЯСК. 288 с.
- Супрун В. И., 2020. Региолект vs диалект: новые поиски этнолингвистов (рецензия на книгу: Донецкий региолект: монография / под ред. B.И. Теркулова. - Донецк: Фолиант, 2018. -265 с.) // Неофилология. Т. 6, № 24. С. 836-845. DOI: 10.20310/2587-6953-2020-6-24-836-845
- Теркулов В. И., 2018. О понятии «региолект» // Вестник ДонНУ Серия Д, Филология и психология. № 3/4. С. 5-16.
- Трубинский В. И., 1991. Современные русские ре-гиолекты: приметы становления // Псковские говоры и их окружение. Псков: Изд-во Псков. гос. пед. ин-та. С. 156-162.
- Храпова В. А., Карандашов И. В., 2018. Региональный текст в современной социокультурной динамике // Logos et Praxis. Т. 17, № 4. C. 125-131. DOI: https://doi.org/10.15688/ lp.jvolsu.2018.4.14
- Шер Е. Ю., 2014. В поисках региональной идентичности: особенности и тенденции развития уральской агиографической литературы XVI-XVII веков // Филологический класс. № 2 (36). С. 98-99.