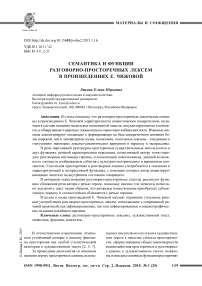Семантика и функции разговорно-просторечных лексем в произведениях Е. Чижовой
Автор: Лисова Елена Юрьевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 1 (25), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье показано, что разговорно-просторечные лексические единицы в произведениях Е. Чижовой характеризуются семантическим синкретизмом, наличием в составе значения нескольких компонентов смысла, актуализирующихся в контексте, и обнаруживают широкую эмоционально-оценочную амбивалентность. Именные лексемы демонстрируют тенденцию к формированию на базе синкретичного значения более широкой, чем в литературном языке, полисемии, глагольные лексемы - тенденцию к «затуханию» некоторых лексико-семантических вариантов и переходу в экспрессивы. В речи персонажей разговорно-просторечные существительные используются в двух функциях: речевой характеристики персонажа, позволяющей автору точно передать разговорные интонации героинь, и локализации повествования, дающей возможность соотнести изображаемые события с культурно-историческим и временным контекстом. Глагольная просторечная и разговорная лексика употребляется в основном в характеризующей и экспрессивной функциях, с помощью которых автор акцентирует внимание читателя на внутреннем состоянии говорящего. В авторском повествовании разговорно-просторечные глаголы реализуют функцию сближения речи автора с речью героев, поскольку именно эти элементы позволяют выстроить текст таким образом, что авторское повествование приобретает субъективную окраску и стилистически сближается с речью героинь. В целом в языке произведений Е. Чижовой находят отражение узуальные речевые употребления разговорно-просторечных лексем, совпадающие с современной речевой практикой, как зафиксированные, так и не зафиксированные в лексикографических изданиях новейшего времени.
Разговорно-просторечные лексемы, художественный текст, семантика, функции, идиостиль
Короткий адрес: https://sciup.org/14970247
IDR: 14970247 | УДК: 811.161.142 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2015.1.16
Текст научной статьи Семантика и функции разговорно-просторечных лексем в произведениях Е. Чижовой
DOI:
В отечественном языкознании отмечается устойчивый интерес к анализу феномена просторечия как особой стилистической категории в художественном тексте [2; 5; 7].
За прошедшие десятилетия «в основном выявлен корпус просторечных единиц, исполь- зуемых писателями и поэтами в художественном тексте в качестве сигнала просторечно-сти, сформулированы общие закономерности взаимодействия просторечных и разговорных единиц в художественном тексте, выявлены и описаны основные функции просторечия»
[2, с. 8–9]. Вместе с тем многие аспекты обозначенной проблематики остаются дискуссионными.
Так, среди ученых нет единства в определении объема понятия «просторечие», отсутствуют четкие критерии разграничения явлений просторечия и разговорной речи, не выработаны подходы к разграничению этих явлений в языке художественной литературы. Не получила еще исчерпывающего освещения проблема типологии разговорно-просторечных единиц в связи с их функционированием в художественном тексте, часто за рамками изучения оказываются и те разговорнопросторечные элементы, которые используются авторами для изображения реалий. Кроме того, в связи с проблемой просторечия в художественном тексте традиционно изучается речь персонажей и почти без внимания остается авторское повествование. Вместе с тем разговорно-просторечные элементы в сфере авторского повествования существенно меняют структуру художественного произведения, расширяют несобственно-прямую речь, усиливают экспрессивность текста в целом [6, с. 97].
Актуальность данной работы связана с тем, что в конце XX – начале XXI в. ученые все больше внимания обращают на активизацию употребления языковых средств, находящихся на периферии русского литературного языка, а также за его пределами [8; 11–13]. Необходимость изучения разговорно-просторечных элементов определяется изменениями в системе современного русского языка новейшего времени в связи с проблемой личности писателя. Как известно, в XIX в. на развитие русского языка и узуса значительное влияние оказывала художественная литература. В конце XX – начале XXI в. оно ослабло и наметилась обратная тенденция – неоправданное включение в художественную ткань произведений языковых средств, находящихся за пределами литературного языка. Как подчеркивают исследователи, современная художественная литература характеризуется повышенным интересом к низовым пластам языка [12], отражает тенденцию к карнава-лизации языка [4], всеобщему огрублению речи [8]. Однако использование разговорно- просторечных элементов в художественной прозе без эффекта огрубления содержания произведения (например, в романах Т. Толстой, Л. Улицкой, Л. Петрушевской, В. Пелевина, Д. Пригова, З. Прилепина) придает им функциональную значимость. Кроме того, исследование семантики и функций разговорно-просторечных компонентов в художественном тексте важно в связи с решением вопросов о подвижности и устойчивости лексики, синонимии и многозначности в общенародном языке.
Просторечные и разговорные элементы в силу экспрессивно-стилистической окрашенности в художественном тексте семантически и функционально близки [3; 4]. Поскольку в языке художественной литературы в семантике разговорных и просторечных лексических единиц наблюдаются аналогичные изменения и анализируемые элементы выполняют одни и те же функции, то, на наш взгляд, в предпринятом исследовании целесообразно рассматривать эти элементы как одно явление.
В работе предпринята попытка стилистического анализа разговорно-просторечных единиц в прозаических произведениях известного российского автора, представителя современной «женской прозы», лауреата премии «Русский Букер 2009» Е. Чижовой. Выбор для анализа произведений Е. Чижовой объясняется тем, что в ее прозе ориентация на разговорно-просторечные средства языка является особой стилистической доминантой, своеобразным способом выражения авторского замысла [10].
Материалом для исследования послужили разговорно-просторечные единицы, извлеченные методом сплошной выборки из романов Е. Чижовой «Время женщин» (2009) и «Терракотовая старуха» (2011).
Как показал анализ, семантика разговорно-просторечных лексем в языке произведений Е. Чижовой имеет ряд особенностей. Прежде всего субстантивную лексику отличает семантический синкретизм. Приведем некоторые типовые примеры. Так, существительное тетка отмечается в анализируемом материале в значении, фиксируемом словарями: «вообще женщина (чаще пожилая)» (СОШ), например: Что это, говорит, за тётка? …В смысле, женщина? (ТС). Вместе с тем в текстах Чижовой признак «возраст» либо нейтрализуется, либо меняется на противоположный (чаще молодая): У этих тёток головы забиты ересью: ясли, пионерлагеря, школы коммунизма (ТС). Кроме того, лексема тетка употребляется в значении «женщина крупных форм»: Толстая тётка – её лицо не помню (ТС), а также в значениях «женщина низкого социального статуса, неухоженная, безвкусно одетая, простоватая»: Тётка… синий костюм… – затрепанное в стирках жабо (ВЖ); «женщина расторопная, предприимчивая»: Тётка-продавщица божилась: французские (ТС). В проанализированном материале лексема тётка употребляется преимущественно с отрицательной коннотативной оценкой (толстая, неухоженная, простоватая, вульгарная), хотя возможность положительной оценки сохраняется (хорошая, предприимчивая). Необходимо сказать, что отмеченная тенденция возникновения положительной коннотации у лексемы тётка характерна для современной разговорной речи, о чем свидетельствуют исследования М.Я. Гловинской, Е.И Галановой (см., например: [9]).
Анализ показал, что семантический синкретизм демонстрирует в языке произведений Е. Чижовой и существительное девка , которое употребляется в значениях «лицо женского пола в возрасте, переходном от отрочества к юности», например: по больницам ведь затаскают, загубят девку (ВЖ); «лицо женского пола, достигшее физической зрелости, но не состоящее в браке» (ТСУ, МАС): Мужик он свободный: ему свободная баба нужна либо – девка (ВЖ).
В анализируемых текстах существительное девка употребляется также в значении «ребенок или подросток женского пола», сближающемся с литературными лексемами девочка: Девке шесть скоро, через два года – в школу (ВЖ) – и дочь в значении «лицо женского пола по отношению к своим родителям», например: ты потому яришься, что сам-то девок настрогал (ВЖ); А как же… если девка на тебя похожая (ВЖ), а также в значении «развратная женщина»: В прежние времена срамных девок и кликали (ВЖ). Необходимо отметить, что описанная полисе-мантичность лексемы девка не отражена в толковых словарях начала и середины ХХ в., но фиксируется современными толковыми словарями, в частности «Современным толковым словарем русского языка» Т.Ф. Ефремовой 2006 г. (СЕф).
Кроме того, в произведениях Е. Чижовой лексема девка может употребляться в более широком значении «лицо женского пола молодого возраста» либо «лицо женского пола вообще»: Чем так-то любоваться, помог бы девке (ВЖ); Вон девки у нас в цеху – все поотрезали, завивку модную навертели: перманент (ВЖ); в функции обращения к молодой женщине либо к женщине вообще: Ох, девка, погибнешь ты с этим телевизором – посадишь глаза (ВЖ); Ты чего это, девка, удумала? (ВЖ), а также в значении «лицо женского пола строгих моральных принципов»: Девка – не девка, а себя соблюдала (ВЖ).
Все рассмотренные лексические единицы имеют ярко выраженную сниженную стилистическую окраску и вместе с тем обнаруживают широкую эмоционально-оценочную амбивалентность. Так, лексема девка употребляется преимущественно с нейтральной оценкой, однако в некоторых случаях приобретает негативную: срамная девка – или положительно-одобрительную коннотации: В общем, молодцы девки! Поднялись (ТС).
Как показал анализ, в семантике глагольных лексем отмечается совмещение коннотативных смыслов (эмоциональных, оценочных, экспрессивных), преобладание эмоционального содержания над рациональным, например: … ей хочется врезать по стеклу, шарахнуть (ТС); Может, и мне какое сварганить, фланелевое (ВЖ).
В произведениях Е. Чижовой разговорно-просторечная субстантивная лексика используется в прямой речи в функции речевой характеристики персонажа, позволяющей автору точно передать разговорные интонации героинь: Девкам нашим завидовала: парочками гуляют (ВЖ); в функции локализации повествования, дающей возможность соотнести изображаемые события с культурно-историческим и временным контекстом: После революции понаехали деревенские девки (ТС), в этом примере у лексемы девка отсутствует оценочный компонент значения; лек- сема характеризует только социальный статус женщин, позволяет передать описываемое время, колорит эпохи, когда для выходцев из низших слоев общества открылись новые возможности. Субстантивная лексика в прямой речи часто употребляется в эмоциональнооценочной функции, позволяющей дать оценку объекта, сопровождающуюся эмоциональным переживанием, например: Помнишь, у нее еще сестра-фифа (ТС); Знаешь бригадиршу закройщиц? Такая… Вульгарная бабища (ТС).
Глагольная просторечно-разговорная лексика в речи персонажей используется в основном в эмоционально-оценочной функции: Ни о чем таком я не думала. Просто глазела по сторонам (ТС) – и экспрессивной функции, с помощью которой автор придает высказыванию бóльшую выразительность: Да уж слышала я, как ты у себя колобродила (ВЖ).
В авторском повествовании доминирует просторечная и разговорная глагольная лексика, преимущественно представленная в функции сближения речи автора с речью героев, например: Презрев прилавки с овощами, бабки рванули к мясу (ТС); Его двоюродного брата чуть не вымели из комсомола за узкие штаны (ТС); Напялив дудочки, дети отреклись от отцов (ТС); Он запихивает папки в портфель (ТС); Ей хочется поднять на него руку, врезать по стеклу, шарахнуть изо всех сил – пусть бы рассыпались осколками (ТС ). Как видно из приведенных примеров, в авторском повествовании происходит переход от первого лица к третьему, однако стилистически тональность текста не меняется, что подчеркивает близость автора и его героев.
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
-
1. В языке писателя находят отражение узуальные речевые употребления разговорнопросторечных лексем, совпадающие с современной речевой практикой, зафиксированные в лексикографических изданиях новейшего времени и еще не нашедшие в них отражения.
-
2. Разговорно-просторечные лексические единицы в произведениях Е. Чижовой характеризуются семантическим синкретизмом, наличием в составе значения нескольких компонентов смысла, актуализирующихся в контексте, и обнаруживают широкую эмоционально-оценоч-
- ную амбивалентность. У именных лексем отмечается тенденция к формированию на базе синкретичного значения широкой полисемии. Глагольные лексемы демонстрируют тенденцию к «затуханию» некоторых лексико-семантических вариантов и переходу в экспрессивы.
-
3. В речи персонажей разговорно-просторечные существительные используются в двух основных функциях: функции речевой характеристики персонажа , позволяющей автору точно передать разговорные интонации героинь, и функции локализации повествования , дающей возможность соотнести изображаемые события с культурно-историческим и временным контекстом. Глагольная разговорнопросторечная лексика используется в основном в характеризующей функции, когда перед автором стоит задача описать отличительные черты характера человека, его поведения, и экспрессивной функции, с помощью которой автор акцентирует внимание читателя на внутреннем состоянии говорящего.
-
4. В авторском повествовании представлена функция сближения речи автора с речью героев, реализованная разговорно-просторечными глаголами. Как показал поведенный анализ, стилистически маркированные элементы позволяют выстроить текст таким образом, что формальное изменение лица не влечет за собой изменения словесной ткани произведения и в то же время создает субъективную окраску так называемого авторского повествования, стилизованного под речь героинь.
Список литературы Семантика и функции разговорно-просторечных лексем в произведениях Е. Чижовой
- Авдеева, Г. А. Стилистически маркированная (окрашенная) лексика в произведениях Г. Щербаковой/Г. А. Авдеева//Уральский филологический вестник. -2013. -№ 3. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://journals.uspu.ru/attachments/article/455/%D0%A3%D0%A4%D0%92_2013_3_%D1%81%D1%8211.pdf. -Загл. с экрана.
- Войлова, К. А. Судьба просторечия в русском языке/К. А. Войлова. -М.: Изд-во МПУ, 2000. -304 с.
- Еремин, А. Н. Проблемы лексической семантики русского просторечия/А. Н. Еремин. -Калуга: Изд-во КГПИ, 2001. -436 с.
- Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа/В. Г. Костомаров. -СПб.: Златоуст, 1999. -319 с.
- Мирошникова, М. Г. Разговорный синтаксис как стилистическая особенность современной прозы/М. Г. Мирошникова. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://slaviccenters.duke.edu/uploads/media_items/2miroshnikova.original.pdf. -Загл. с экрана.
- Митрофанов, Г. Ф. К вопросу о понятии просторечия в современном русском языке/Г. Ф. Митрофанов//Труды Томского государственного университета. -Томск: Изд-во ТГУ, 1960. -Т. 138. -С. 82-97.
- Петрищева, Е. Ф. Внелитературная лексика в современной художественной прозе/Е. Ф. Петрищева//Стилистика художественной литературы. -М.: Наука, 1982. -С. 19-34.
- Сиротинина, О. Б. Русский язык: система, узус и создаваемые ими риски/О. Б. Сиротинина. -Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2013. -116 с.
- Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX-XXI веков/М. Я. Гловинская . -М.: Яз. слав. культур, 2008. -712 с.
- Терентьева, Е. В. Выразительные возможности полипрефиксальных глаголов в художественном дискурсе (на материале трилогии Е.А. Кулькина «Прощеный век»)/Е. В. Терентьева, К. А. Матжанова//Грани познания. -2011. -№ 4 (14). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: www.grani.vspu.ru/jurnal1/19. -Загл. с экрана.
- Химик, В. В. Поэтика низкого, или просторечие как культурный феномен/В. В. Химик. -СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2000. -272 с.
- Химик, В. В. Предисловие/В. В. Химик//Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. -СПб.: Норинт, 2004. -С. 5-12.
- Шапошников, В. Н. Просторечие в системе русского языка на современном этапе/В. Н. Шапошников. -М.: Либроком, 2012. -176 с.