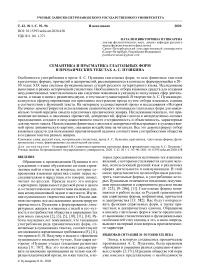Семантика и прагматика глагольных форм в прозаических текстах А. С. Пушкина
Автор: Пушкарева Наталия Викторовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Конфиренции
Статья в выпуске: 1 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Особенности употребления в прозе А. С. Пушкина глагольных форм, то есть финитных глаголов в различных формах, причастий и деепричастий, рассматриваются в контексте формирующейся в 2030 годах XIX века системы функциональных стилей русского литературного языка. Исследование выполнено в рамках исторической стилистики. Необходимость отбора языковых средств для создания нехудожественных текстов возникла как следствие появления в указанную эпоху новых сфер деятельности, а также в связи с развитием науки, в том числе гуманитарной. В творчестве А. С. Пушкина реализуются сформулированные им принципы построения прозы путем отбора языковых единиц в соответствии с функцией текста. На материале художественной прозы и исследования «История Пугачева» демонстрируется использование семантического потенциала глагольных форм для максимально точной передачи смысла в различных прозаических жанрах. Исследование показало, что применение активных и пассивных причастий, деепричастий, форма глагола в неопределенно-личных предложениях создают в нехудожественном тексте отстраненность и объективность, характерные для научного текста. Использование финитных глаголов и деепричастий выстраивает в художественной прозе динамическую картину, оказывая воздействие на читателя. Все это демонстрирует отбор языковых средств для выполнения прагматической задачи в соответствии с потребностями общества в создании текстов разных жанров.
Русский язык, историческая стилистика, проза а. с. пушкина, прагматика, глагольные формы, функциональные стили, формирование стилистической системы
Короткий адрес: https://sciup.org/147226564
IDR: 147226564 | УДК: 811.161.1.271 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.438
Текст научной статьи Семантика и прагматика глагольных форм в прозаических текстах А. С. Пушкина
Обращение к произведениям Пушкина и его суждениям о языке обусловлено сегодня стремлением найти ответы на вопросы, которые современная языковая практика ставит перед исследователями и перед теми, кто говорит, пишет, читает по-русски. Прежде всего это вопрос о критериях правильности русской речи в целом и о стилистическом соответствии языковых единиц коммуникативной задаче в частности. Изучение пушкинского творчества имеет в России давнюю историю, все исследования демонстрируют причастность Пушкина к формированию литературных жанров и языковых стилей и его чуткость к потребностям общества в выражении тех или иных смыслов [2], [3], [5], [10], [11], [14]. Работы последних лет показывают, что тенденции употребления ряда грамматических форм, отмечаемые в пушкинских текстах, соответствуют сегодняшним нормативным требованиям [5], [11], что привело Е. В. Падучеву к мысли о «феномене пушкинского языкового чутья», благодаря которому «Пушкин угадал тенденции развития» языка [11: 107]. Все это позволяет рассматривать пушкинские произведения не только как образцы классической прозы, но и как тексты, в ко
торых прослеживаются источники тех языковых явлений, с которыми сталкивается сегодня человек, использующий русский язык в различных сферах деятельности и коммуникации. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть глагольные формы, в употреблении которых Пушкиным отмечаются тенденции, получившие продолжение в современном русском языке [4: 223], [9: 206], [11]. Глагольные формы понимаются в работе вслед за Русской грамматикой как спрягаемые формы, инфинитивы, причастия и деепричастия [13: 582]. Нас будут интересовать функции спрягаемых форм, а также причастных и деепричастных единиц. Обращение к анализу глагольных форм в тексте предполагает выявление стилистических и функциональных особенностей этих единиц, а это, в свою очередь, выводит на первый план вопросы прагматического характера
ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ 20–30 ГОДОВ XIX ВЕКА
Эпоха, в которую создавались прозаические произведения А. С. Пушкина, была временем «брожения и смешения разных социально-языковых стилей» [3: 371]. В русском обществе той поры уже имелось представление о необходимости особых языковых кодов, соответствующих определенным видам интеллектуальной деятельности, однако практика показывала, что стилистическая система отставала от коммуникативных потребностей общества. Однако литературный язык не отвечал запросам времени, так как
«его функциональная парадигма еще только складывалась и была далека от соответствия парадигме назревших потребностей общества » [14: 69].
Развитие науки, в том числе гуманитарной, и оформление журналистики как жанрового явления вызывали интерес к литературе иного типа, например к научным описаниям [2: 53], что делало актуальным вопрос о соответствии языка произведения функциональной задаче текста.
Характеризуя состояние русского языка своего времени, А. С. Пушкин писал:
«…ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись – метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных» (7: 14)1.
Для создания «оборотов слов» или отбора нужных единиц в соответствии с жанром и адресатами текстов (как художественных, так и нехудожественных) предлагались единые принципы: «Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат» (7: 12–13). Преобладающая в произведениях А. С. Пушкина «глагольная стихия» [9: 206] как нельзя лучше соответствует этим требованиям. Ее проявление ярко представлено в отобранных для анализа примерах из произведений «Капитанская дочка», «Арап Петра Великого», «Пиковая дама», а также из работы «История Пугачева», признаваемой сегодня научным историческим исследованием [7: 253]. Примечательно, что В. О. Ключевский, высоко ценивший подход А. С. Пушкина к изучению истории, называл это исследование «длинным объяснительным примечанием» к повести «Капитанская дочка» [6: 79], отдавая приоритет в передаче духа эпохи художественному тексту [6: 79].
ФУНКЦИИ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ
В ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ А. С. ПУШКИНА
В пушкинских художественных текстах одним из важнейших элементов оказываются финитные глаголы, передающие движение субъектов и объектов или описывающие трансформацию их и окружающей природы:
«Ямщик поскакал ; но всё поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу , которая тяжело подымалась , росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег - и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл ; сделалась метель» (6: 267).
Предложения содержат минимальное количество второстепенных членов, преобладают обстоятельства и дополнения, конкретизирующие характер и направленность действий (определение белая относится к части составного именного сказуемого обратилось в тучу). Описания завершенности или длительности множества параллельных действий формируют основной сюжет и его фон. Глаголы совершенного вида называют последовательно сменяющиеся действия, создавая эффект быстрого движения и изменения различных субъектов и объектов: поскакал , обратилось (в тучу), пошел, повалил, сделалась . Изменения состояния природы, составляющие фон повествования, описаны глаголами несовершенного вида, которые называют продолжающиеся одновременные действия: подымалась, росла, облегала . Продолжающееся действие бежали соединяет оба плана повествования. Ситуация представлена через призму визуального восприятия рассказчика, она дополняется упоминанием звука ( ветер завыл ). Складывающаяся картина кинематографична, на каждом из ее планов происходит какое-то движение. Пунктуационные знаки в конце коротких простых предложений и небольших частей сложного предложения расчленяют повествование, что замедляет процесс чтения, привлекая внимание читателя.
Финитные глаголы могут создавать картину, воспринимаемую не только зрением, но и слухом:
«Карета подъехала и остановилась . Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились . Люди побежали , раздались голоса и дом осветился . В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла» (6: 224).
Десять глаголов называют однократные, быстро сменяющие друг друга движения, обозначают звуковой фон, сообщают об изменившейся освещенности пространства. Первые три предложения представляют собой сдвинутые конструкции, связь между ними основана «на искомых, подразумеваемых звеньях, которые устранены повествователем»» [4: 223]. Смена точек зрения не всегда позволяет понять, кто именно воспринимает события: Германн или рассказчик. Важная роль в выявлении невербализованного смысла отводится читателю, вынужденному восстанавливать опущенные компоненты с опорой на свой жизненный и читательский опыт.
В нехудожественном тексте исследования «История Пугачева» финитные глаголы реализуют прежде всего информативную функцию, создавая характерную для научного функционального стиля объективность2. Например:
«Фрейман весною прибыл в Оренбург, где дождался слития рек, и - взяв с собою две легкие полевые команды и несколько казаков, пошел к Яицкому городку. Мятежники, в числе трех тысяч, выехали против него; оба войска сошлись в семидесяти верстах от города» (8: 115).
Динамическое развитие сюжета оттеняется семантикой конкретных глаголов, передающих смену событий, обстоятельства и дополнения уточняют условия протекания действий. Как и в художественной прозе, несущественные подробности отсекаются:
«<„> Пугачев пошел на Чернореченскую. В сей крепости оставалось несколько старых солДат при капитане Нечаеве, заступившем место коменДанта, майора Крузе, который скрылся в Оренбург. Они сдались без су-противления. Пугачев повесил капитана по жалобе крепостной его Девки» (8: 124).
Информативно насыщенными оказываются причастия, которые Пушкин ценил за «выразительную краткость» (7: 230). В «Истории Пугачева» краткие пассивные причастия становятся едва ли не ведущей глагольной формой при описании событий, называя состояние людей или объектов как результат предшествующего действия:
«Все офицеры были повешены . Несколько солДат и башкирцев выведены в поле и расстреляны картечью. Прочие острижены по-казацки и присоединены к мятежникам» (8: 123); « Зачинщики бунта наказаны были кнутом; около ста сорока человек сослано в Сибирь; Другие отданы в солдаты (NB все бежали); остальные прощены и приведены ко вторичной присяге» (8: 115); « Крепость была разорена и выжжена , церковь разграблена , иконы ободраны и разломаны в щепы» (8: 164).
Причастные формы выражают значение результативности [12: 54], то есть обозначают состояние как результат деятельности неназванных людей. Как отмечается, «у Пушкина пассивные причастия употребляются только статально, т. е. в соответствии с действующими сегодня правилами» [5: 161]. Именно эта глагольная форма рекомендуется как одно из средств создания в нехудожественном (научном) тексте объективности и описания результатов без указания на деятелей3. Устранение деятеля придает описанию масштабность, поскольку исчезает соотнесение с человеком как с точкой отсчета и возникает панорама действия безликих сил – возможно, самой Истории.
Не менее значима и задача, решаемая с помощью деепричастий. В художественной прозе деепричастия и деепричастные обороты в функции обстоятельства позволяют читателю соотнести текст со своим опытом и убедиться в логичности и реальности поведения героев (или животных):
«ЛошаДи стояли, понуря голову и изреДка вздрагивая . Ямщик хоДил кругом, от нечего Делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я гляДел во все стороны, надеясь увиДеть хоть признак жилья или Дороги <„>» (6: 268).
В нехудожественном тексте причастные и деепричастные единицы совмещают в себе несколько характеристик действий: их результаты, совместность или последовательность протекания, вторичность одного действия по отношению к другому:
«Казаки, отряжаемые Симоновым из гороДа Для соДержания караулов или Для поимки возмутителей, подсылаемых из БерДской слобоДы, начали явно оказывать неповиновение, освобождать схвачен -ных бунтовщиков <„>» (8: 142); « Гарнизонам же малых крепостей, еще не взятых Пугачевым, велено было иДти в Оренбург, зарывая или потопляя тяжести и порох» (8: 124).
«Выразительная краткость» причастия способствует высокой концентрации смысла в научном тексте и обеспечивает точность изложения при минимуме используемых единиц.
Еще одним средством создания отстраненности в тексте являются неопределенно-личные предложения. В художественной прозе эти единицы создают динамический фон повествования, называя второстепенные по значимости события:
«Графа нашли способ уДалить. Доктор приехал. Дня Два переД сим уговорили оДну беДную женщину уступить в чужие руки новорожДенного своего млаДенца; за ним послали поверенного» (6: 11).
В нехудожественной прозе неопределенноличные предложения часто включаются в состав сложных с союзной или бессоюзной связью, обозначая действия анонимных персонажей:
«ОДнако же, как поД нею (колокольней. - Н. П. ) в поДвале сохранялся весь пороховой запас (что могли знать и мятежники), то и поспешили оный убрать, разобрали кирпичный пол и начали вести контрмину. Гарнизон приготовился; ожидали взрыва и приступа» (8: 152); « Положение Оренбурга становилось ужасным. У жителей отобрали муку и крупу и стали им производить ежеДневную раздачу . ЛошаДей Давно уже кормили хворостом» (8: 143).
Компактность и информативность описания обеспечиваются семантикой главных членов неопределенно-личных предложений, обозначающих не названных, но подразумеваемых лиц. Глагольная форма описывает: 1) «воспринимаемые на слух действия», 2) «реакции, осуществляемые коллективом», 3) «действия государственной машины», 4) «действия ситуативно обусловленной группы людей» [15: 310–311], следовательно, действующий субъект идентифицируется как группа людей [8: 353], которых читатель способен выявить самостоятельно.
Глагольные формы позволяют сопроводить изложение фактов передачей авторского отношения к событиям, например, при описании положения гарнизона в осажденном пугачевцами Яицком городке:
«Осажденные питались оДною глиною уже пятнадцатый День. Никто не хотел умереть голоД-ною смертью. Решились все До оДного (кроме совершенно изнеможенных) идти на последнюю вылазку. Не надеялись победить (бунтовщики так укрепились, что уже ни с какой стороны к ним из крепости приступу не было), хотели только умереть честною смертию воинов» (8: 160).
Примечательно, что на лексическом уровне возникает только два традиционных оборота с оценочной семантикой : умереть голодной смертью и умереть честною смертию воинов . Представление об эмоциональном состоянии персонажей и об отношении к ним автора создается в отрывке использованием смыслового потенциала глаголов и причастий. Субстантивированное причастие осажденные и единица изнеможенные описывают разные аспекты состояния персонажей. Финальный отрывок с глагольными сказуемыми не надеялись победить, хотели умереть можно трактовать и как парцелля-ты, и как неопределенно-личные предложения. Второй вариант возможен, если учесть мысль Н. И. Михайловой о том, что наследие Пушкина следует рассматривать в контексте риторической культуры XIX века, так как «пушкинские произведения – не только поэзия, но и проза – были рассчитаны на чтение вслух» [10: 8]. Паузы при чтении отрывка расчленяют высказывания и воздействуют на читателя, побуждая его к осмыслению услышанного. В тексте актуализируется синтаксическая экспрессия, понимаемая в узком смысле как явление, связанное «с авторским повествованием и конструктивным принципом – различными видами синтаксической расчлененности, или ослабления синтагматических связей» [1: 101].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обзор использования глагольных форм в образцах пушкинской художественной и нехудожественной прозы демонстрирует отбор этих единиц в соответствии с прагматической задачей текста определенного жанра. Так, в нехудожественной прозе для создания свойственных научному стилю информативности, отстраненности и объективности актуализируется смысловой потенциал пассивных причастий и неопределенно-личных предложений. В художественной прозе многоплановость и динамизм повествования обеспечивают причастные и деепричастные глагольные формы, уточняющие характер протекания сопутствующих действий. Выявление всей полноты смысла, как вербализованного, так и передаваемого грамматической семантикой глагольных форм, требует от читателя сотрудничества и опоры на собственный опыт и знания. Во всех рассмотренных прозаических образцах применение глагольных форм способствует экономии средств и создает компрессию смысла. Наблюдаемый процесс отбора средств, соответствующих задачам разных типов прозы, есть не что иное, как формирование стилистических норм для складывающихся функциональных стилей. Исследование текстов А. С. Пушкина позволяет проследить пути формирования системы функциональных стилей русского языка, а также выявить истоки тех особенностей, которые сегодня стали привычными чертами русской прозы разных жанров и синтаксических типов.
SEMANTICS AND PRAGMATICS OF THE VERB FORMS IN ALEXANDER PUSHKIN’S PROSE
Cite this article as: Pushkareva N. V. Semantics and pragmatics of the verb forms in Alexander Pushkin’s prose. Proceedings of Petrozavodsk State University. 2020. Vol. 42. No 1. Р. 92–96. DOI: 10.15393/uchz.art.2020.438
Список литературы Семантика и прагматика глагольных форм в прозаических текстах А. С. Пушкина
- Акимова Г. Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. М.: Высш. шк., 1990. 166 с.
- Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени (Разыскания и этюды) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 9-125.
- Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX веков. М.: Наука, 1982. 529 с.
- Виноградов В. В. Стиль "Пиковой дамы" // Виноградов В. В. Избранные труды. О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980. С. 176-239.
- Добровольский Д. О. К динамике узуса (Язык Пушкина и современное словоупотребление) // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1. С. 161-178.
- Ключевский В. О. Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину // Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 9. М.: Мысль, 1990. С. 77-84.
- Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1833-1836). Л.: Худож. лит., 1982. 463 с.
- Мельчук И. А. О синтаксическом нуле // Типология пассивных конструкций: Диатезы и залоги. Л.: Наука, 1974. С. 343-361.
- Мещерский Н. А. История русского литературного языка. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. 279 с.
- Михайлова Н. И. "Витийства грозный дар".. А. С. Пушкин и ораторская культура его времени. М.: Русский путь, 1999. 416 с.
- Падучева Е. В. Русский литературный язык до и после Пушкина // A. S. Pushkin und die kulturelle identit at Russlands (Gerhard Ressel, Ed.). Frankfurt/Main, Peter Lang, 2001. S. 97-108.
- Плунгян В. А. К определению результатива // Вопросы языкознания. 1989. № 6. С. 55-63.
- Русская грамматика. Т. I. М.: Наука, 1980. 783 с.
- Тарланов З. К. Заметки о русском литературном языке Пушкинской поры // Русская речь. 2013. № 5. С. 68-73.
- Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. М., 2001. 798 с.