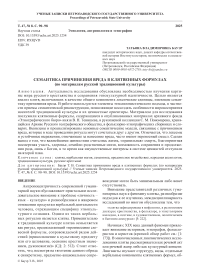Семантика причинения вреда в клятвенных формулах (по материалам русской традиционной культуры)
Автор: Бауэр Т.В.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Этнография, этнология и антропология
Статья в выпуске: 8 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения картины мира русского крестьянства и сохранения этнокультурной идентичности. Целью является анализ клятв, включающих в качестве общего компонента лексические единицы, имеющие семантику причинения вреда. В работе используются элементы этнолингвистического подхода, в частности приемы семантической реконструкции, позволяющие воссоздать особенности мировосприятия носителей традиционной культуры и их ценностные ориентиры. Материалом для исследования послужили клятвенные формулы, содержащиеся в опубликованных материалах архивного фонда «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева, в рукописной коллекции С. М. Пономарева, хранящейся в Архиве Русского географического общества, в фольклорно-этнографических сборниках и словарях. Выявлены и проанализированы основные семантические модели, связанные с причинением вреда, которые в ходе проведения ритуала могут сочетаться друг с другом. Отмечается, что лексемы и устойчивые выражения, отвечающие за нанесение вреда, часто имеют переносный смысл. Сделан вывод о том, что важнейшими ценностями считались жизнь, «правильная» смерть, благоприятная посмертная участь, здоровье, семейно-родственные связи, возможность сохранения и продолжения рода, связь с Богом, в то время как имущественные интересы в системе ценностей отступали на второй план.
Клятва, вербальная магия, семантика, вредоносное воздействие, народная аксиология, традиционная культура, русские крестьяне
Короткий адрес: https://sciup.org/147252360
IDR: 147252360 | УДК: 39 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1254
Текст научной статьи Семантика причинения вреда в клятвенных формулах (по материалам русской традиционной культуры)
Антропоцентричность современной гуманитарной науки обуславливает пристальное исследовательское внимание к проблеме «личность – язык – культура» и разнообразным в жанровом отношении продуктам вербальной деятельности человека, отражающим специфику этнокультурного сознания. Одним из таких вербальных ритуалов является клятва. Применительно к традиционной культуре клятва осмысляется как ритуал, предполагающий «произнесение словесной формулы, сопровождаемой рядом действий (прикосновение к культовому предмету или его целование, осенение крестным знамением, рукопожатие)» (СД: 2: 512). Стоит отметить, что, несмотря на тяготение данного обряда к синкретизму, предметно-акциональное сопро-
вождение могло быть минимальным либо вовсе отсутствовать.
Внимание представителей различных гуманитарных наук к феномену клятвы, разнообразие подходов к ее изучению, междисциплинарность исследований во многом обусловлены тем, что
«клятва зафиксирована в мифологии, в религиозном дискурсе христианства, в фольклоре, в эпистолярном наследии, в поэтике, в художественном, политическом и бытовом дискурсах» [5: 222].
Начиная с XIX века данный феномен привлекает внимание историков, этнографов, фольклористов и юристов (краткий обзор работ см.: [1: 173]). В многочисленных лингвистических исследованиях клятва рассматривается как речевой акт или речевой жанр либо как культурный концепт. Лингвисты изучают структуру, виды, отдельные вербальные компоненты клятвенных формул, об- ращаются к коммуникативно-семантическим параметрам, специфике прагматических функций, аксиологическим и гендерным аспектам, выявляют особенности клятв в разных лингвокультурах, анализируют понятийную составляющую концепта с учетом историко-культурной динамики [6], [7], [9], [10], [14] и др. При этом семантические модели, связанные с причинением вреда, не являлись предметом специального рассмотрения, что обуславливает актуальность предпринятого исследования. Кроме того, в качестве источника лингвистами практически не использовались тексты, характерные для традиционной культуры.
Стоит отметить, что клятвенные формулы структурно и семантически близки формулам проклятий [11: 495–496], жанровая специфика, аксиология и логико-смысловая структура которых, как и семантика отдельных компонентов проклятия, а также лексические и лингвопрагматические особенности, рассмотрены достаточно глубоко на материалах традиционной русской и других славянских культур [2], [4], [15], [16] и др., в то время как вербальная составляющая клятв представляется недостаточно изученной в плане содержания. Л. Н. Виноградова относит проклятья к категории «аксиологических» текстов, в которых прямо сформулированы представления о том, что такое «плохо» [4: 53]. Клятвы, содержащие компоненты, «отвечающие» за вредоносное воздействие, также могут быть отнесены к этой категории, и обращение к подобным текстам позволит выявить ценностные ориентиры носителей русской традиционной культуры.
В работе используются элементы этнолингвистического подхода, в частности приемы семантической реконструкции, позволяющие воссоздать фрагменты картины мира, систему ценностей и особенности мировосприятия носителей традиционной культуры. Источниковой базой исследования являются клятвенные формулы, содержащиеся в рукописной коллекции С. М. Пономарева, хранящейся в Архиве Русского географического общества. Данная коллекция содержит материалы 1880-х годов по русскому обычному праву. Особый интерес для нас представлял раздел «Божба». В работе использовались также опубликованные материалы созданного князем В. Н. Тенишевым в 1897 году «Этнографического бюро», основной целью которого был сбор сведений о различных аспектах жизни русского крестьянства. Интересующие нас тексты содержались в разделах Д. Общественные условия, обычаи и законы, регулирующие отношение крестьян к обществу и государственному строю (подраздел «Суд и расправа»), Е. Отношения крестьян между собой и к посторонним лицам (подраздел «Торговля») и Ж. Верования, знания, язык, письмо, искусство (подраздел «Язык крестьян»). Кроме того, в качестве источников привлекались материалы различных словарей, а также фольклорно-этнографических сборников.
При классификации клятвенных формул представляется уместным придерживаться точки зрения И. А. Митронова, который на основе анализа лексикографических данных и исторических документов выделяет в зависимости от формы объективации такие виды клятв, как божба, рота и божба-рота [6: 81]. Целью исследования является анализ клятв по типу роты и божбы-роты, включающих в качестве общего компонента лексические единицы, имеющие семантику нанесения вреда. Подобными клятвами крестьяне старались не злоупотреблять, опасаясь последствий, которые должны были постигнуть клятвопреступника. Стоит отметить, что данные тексты, согласно классификации вербальных ритуалов на основе их иллокутивных целей, предложенной А. Энгелькинг, относятся к типу так называемых созидающих ритуалов [16: 77–84]. Неполнота данной классификации побудила С. М. Толстую подключить к ней оценку состояний, являющихся ожидаемым результатом вербального ритуала, что позволило выделить «отрицательный» подтип: обряды, «создающие нечто плохое», то есть причиняющие вред [12: 69].
***
Чаще всего вредоносное воздействие заключено, как и в формулах проклятий, в предикате. Это воздействие может реализовываться / дублироваться и на предметно-акциональном уровне. Лексемы и устойчивые выражения, отвечающие за нанесение вреда, могут иметь как прямой, так и переносный смысл. Кроме того, необходимо отметить, что выделенные семантические модели в ходе проведения ритуала могут сочетаться, причем их последовательность зачастую выстроена с использованием приема восходящей градации: от пожеланий болезни и увечий до инициирования смерти.
Прежде всего стоит упомянуть о такой модели, как насылание проклятья / собственно клятва: «Будь я проклят!», «Клянусь своей седой бородой. Клянусь тебе своей головой», Новгородская губ. (РК: 7: 205), «Матерью клянусь!» (СД: 2: 513) и др. Как отмечает С. М. Толстая, лексема «клятва» обладает признаком, имеющим прагматический характер»: «…клясть, в отличие от говорить, означает сакрализованную речь, слово, обладающее силой действия» [12: 66]. В традиционной культуре клятва осмыслялась как ритуал, обладающий высоким магическим потенциалом, что подтверждается как лексикографическими, так и этимологическими данными. Так, результаты дефиниционного анализа концепта «клятва» свидетельствуют о том, что в XIX веке в русском этноязыковом сознании клятва-присяга «оставалась заклинанием, или магическим знаковым действием» [6: 81–82]. Здесь стоит также отметить, что, согласно альтернативной этимологии, предложенной А. Штейнгольц, глаголы *klęti и *kliniti в значении ‘забивать клин, не удаваться, стопорить’ связаны; *kliniti происходит от слова *klinъ ‘клин, гвоздь’, восходящего к *kŏlti ‘колоть, резать’. Получается, что с точки зрения этимологии клясться означает ‘прокалывать себя’, а глагол клясть включает семантику колдовства, насылания порчи, проклятия1 (см. курск. клятбовать – ‘напускать порчу’ (Толковый словарь: 2: 125)).
Следующая модель заключается в инициировании наказаний в общем виде:
«накажи меня Господи, Царица Небесная, самыми лихими наказаниями», «…накажи меня, Господи, теми наказаниями, которые сам себе назначил», Орловская губ. (Тенишев: 142, 145), «…пусть на меня падет екимья всякая» ( екимья – искаженное от епитимья . – Т. Б. ), Рязанская губ. (Муллов: 628).
Подобные формулы встречаются достаточно редко и употребляются в ходе ритуала, как правило, наряду с другими, в которых наказания конкретизируются.
Популярной моделью является инициирование ненасильственной смерти, реже – убийства: «…пусть жена и дети помрут», Костромская губ. (РК: 1: 125), «…издохнуть, как псу!», Новгородская губ. (РК: 7: 205) (в данном примере стоит обратить внимание на уподобление смерти человека смерти животного, в частности собаки, а собачьей смертью в крестьянской культуре считалась смерть без покаяния (Толковый словарь: 4: 258), то есть смерть, недостойная христианина), «околеть», Нижегородская губ. (Борисовский: 218) (здесь также вероятно уподобление смерти животного; см. околеть в значении ‘умереть’ (о животном) (Толковый словарь: 4: 505)), «Убей мяне соунца провидныя!», Смоленская губ. (СД: 2: 513). К данной модели относятся также клятвы, в которых инициирование смерти описывается в терминах «потухания» жизни (свечи, символизирующей жизнь) / невозможности дожить до определенного момента: «…как потухла эта свечка, так потухни и моя жизнь» (при совершении ритуала присягающий тушит свечу, дублируя семантику на предметно-ак-циональном уровне), Орловская губ., «Не допусти меня дожить до завтрашнего дня», Смоленская губ. (Тенишев: 143, 140). В значении ‘не дожить до определенного момента’ употребляются также следующие тексты: «…чтоб я не дождался закатного солнышка!» (кладя на голову комок земли), Черниговская губ. (АРГО: 34), «…не дай, Бог, девку дорастить!», Орловская губ. (АРГО: 23), по сути, инициирующие отсроченную смерть с фиксацией некой временной точки, недостижимой для присягающего. Подобные модели, в которых отсутствуют прямые номинации смерти, однако она инициируется посредством образных оборотов и эвфемизмов, были весьма продуктивными, поскольку смерть в традиционной культуре часто табуировалась и ее лексикон достаточно беден [3: 7].
На уровне образных номинаций инициировать смерть должно было также злопожелание, содержащее мотив укрывания землей, отсылающий к похоронному обряду: «…пусть сама родная земля прикроет <…> на веки», произносимое при земельных спорах и сопровождаемое вырезыванием куска дерна, который клянущийся должен был держать над головой (Паппе: 23). Стоит отметить, что подобное положение тела по отношению к земле характеризует покойника, которому уподоблялся клянущийся. Симптоматичным является и употребление временного маркера, указывающего на категорию вечности. В материалах Черниговской губернии содержится также упоминание о смерти присягнувших после совершения подобного ритуала (АРГО: 34).
Модель «умирания», кроме того, может реализоваться через изгнание души, отделение ее от тела: «Выдь душа!», которую О. В. Белова относит к клятвам жизнью (СД: 2: 513) и через лишение возможности видеть субъект, который посредством злопожелания удалялся из зоны видимости клянущегося в мир смерти:
«...дай Господи не видать мне своих лошадей на дворе (<…> значит, оне у него будут околевать)», «Дай Бог не увидеть своего мужа» (муж заболевает и умирает), Орловская губ. (Тенишев: 142–143).
Здесь мы приводим лишь тексты, в комментариях к которым упоминается о смерти как о последствии лжеприсяги. Однако примеры, иллюстрирующие модель, связанную с лишением зрения, также могут быть процитированы, поскольку в переносном, а не в буквальном смысле «не видеть» могло означать ‘не существовать на этом свете’, то есть ‘умереть’. В крестьянской культуре слепота ассоциировалась с темнотой, иным миром и смертью. Так, фразеологизм «свет из глаз выкатился» означает одновременно и утрату зрения, и смерть (СД: 5: 46). О. В. Белова рассматривает клятву «Чтоб мне белого света не видеть!» как клятву жизнью (СД: 2: 513). О связи пожелания слепоты с пожеланием смерти в проклятиях см. также у М. В. Ясинской [15: 84–85, 88–89] и у Н. И. Толстого, который рассматривает болгарское проклятие «Да му ее не види!» («Чтоб ему не виделось!») как близкое по значению русскому проклятию «Чтоб он сдох!» [13: 205], причем смерть может настигнуть как клянущегося, так и его родственников, включая еще не рожденных детей, являющихся залогом клятвы (см. ниже). Инициирование смерти, упоминаемое в клятвенных формулах в материалах Черниговской губернии, подкрепляется крестьянскими представлениями о том, что клятвопреступнику Бог половину века убавляет (АРГО: 34), «…Бог не даст веку дожить», Тамбовская губ. (Бондаренко: 86). В текстах, записанных в Черниговской губернии и повествующих о постигших клятвопреступников наказаниях, упоминается, что присягнувший умирает вскоре, причем без покаяния, либо в течение года (АРГО: 28, 34). В связи с этим необходимо обратить внимание на распространенное среди крестьян убеждение, что «смерть по охоте выкликанная, есть смерть безпокаянная, срам и мука вечная» (Муллов: 625). Здесь стоит также подчеркнуть, что любая неестественная, преждевременная смерть, смерть без покаяния относилась к категории «плохой» и влияла на посмертную судьбу: человек, умерший такой смертью, становился опасным демоном (СД: 5: 61).
Семантическая модель, предполагающая изменение положения объекта в пространстве, реализуется в текстах клятв посредством следующих вариантов: перемещение вниз, чаще – в некий опасный локус / исчезновение / переворачивание. Приведем примеры первых двух вариантов:
«Пускай мои дети провалятся в тартарары», Вятская губ., «Провались я скрозь землю!», «Провались я скрозь споднюю!», Тульская губ. (АРГО: 22, 28), «сгинь извидь» (в значении ‘провались я на этом месте’ (челя-бин.)), «Сгинь последняя животина» ( сгинуть в значении ‘пропасть’) (СРНГ: 37: 18), «исчезнуть», Нижегородская губ. (Борисовский: 218), «Пусть моя скотина пропадет», Костромская губ. (РК: 1: 125), «Весь живот прах возьми» ( живот в значении ‘рабочий скот’, ‘все движимое имущество’) (Толковый словарь: 1: 555–556) ( прахом взяться – ‘исчезнуть’ (свердл.)) (СРНГ: 31: 70).
На акциональном уровне данная модель могла реализовываться посредством помещения в углубление в виде восьмиконечного креста, символизировавшего могилу, что, согласно материалам Костромской губернии, практиковалось старообрядцами (Левенстим: 22–23). Семантика перемещения и исчезновения может в некоторых формулах пониматься буквально, однако подобные тексты зачастую метафорически означали смерть в силу того, что при перемещении движение направлено вниз (ср. эвфемистическое обозначение смерти в русских диалектах как движения вниз, под землю: уйти книзу , пойти в землю ). Кроме того, стоит упомянуть значение глаголов пропадать , теряться , обозначающих смерть (СД: 5: 59), и лексемы тартар – ‘ад, преисподняя’ (Толковый словарь: 4: 402). Названные в текстах локусы указывают на незавидную посмертную участь поклявшегося ложно. На акциональном уровне смертный исход символизируют детали похоронного обряда: моделируется пространственная ситуации, обратная норме, служащая отсылкой в иной, подземный мир. Тексты клятв содержат также упоминание о таком изменении положения объекта в пространстве, как переворачивание: «…чтобы и меня так же перевернуло» (на акциональном уровне вредоносное воздействие инициируют переворачиванием иконы), Тамбовская губ.; «Переворотит мой дом кверху донизу», Московская губ. (АРГО: 9, 20). Во вредоносной магии переворачивание – один из способов наведения порчи, призванных инициировать болезнь, смерть и пр., в том числе глобальные изменения к худшему в жизненном укладе, хозяйстве, семье (см. перевертыш в значении ‘резкое болезненное изменение внешнего вида кого-либо’ (арх.), перевертываться – ‘умереть, подохнуть’ (арх., свердл., бурят.) (СРГН: 26: 46, 47), дом – ‘распорядок’, ‘хозяйство’, ‘семья’ (Толковый словарь: 1: 479)).
Следующей достаточно популярной моделью является инициирование болезни (кишечного заболевания, нарыва, гангрены, грыжи) / удушья. Проиллюстрируем первый вариант: «…прой-ми меня кровяной понос», «чтобы мне сел типун на язык», «…чтобы в мои ноги включился антонов огонь» (при произнесении клятвы клянущийся водит свечой по голым ногам, как бы указывая на объект негативного воздействия и акциональ-но усиливая его), Орловская губ. (Тенишев: 143, 144, 145), «…будь я искиловат», Костромская губ. (РК: 1: 125). Болезнь должна была пристать, проникнуть в тело, поразить его. Инициирование удушья, последствием которого могла стать преждевременная смерть поклявшегося ложно, реализуется в следующих текстах:
«…чтоб мне первым куском поперхнуться (подавиться)» (Пословицы: 182), «Чтобы у меня скотина подавилась тем клоком сена, который я украл у Егорки», Орловская губ. (Тенишев: 141), «Подавись я Христовым яичком на первый день Пасхи!», Тульская губ. (АРГО: 28).
В последнем случае подключается также еще одно значение – невозможность совершить действия, связанные с православным обиходом, в частности разговеться. Содержащие подобные клятвенные формулы ритуалы могут включать элемент испытания:
«…когда стану есть этот комок <земли>, чтоб я им подавился. <…> чтобы я захлебнулся водой, в которой стоял животворящий крест Господень», Орловская губ. (Тенишев: 144), «Божатся хлебцем с солью, чтобы подавиться», Уфимская губ. (АРГО: 10).
Такие ритуалы, напоминающие ордалии, являлись, с точки зрения крестьян, эффективным средством идентификации клятвопреступника.
Чрезвычайно продуктивной моделью является инициирование физического повреждения (вплоть до уничтожения, влекущего за собой смерть), нарушения целостности и цвета тела, при этом крайне редко в текстах упоминается о физическом уничтожении имущества. Данная модель может реализовываться в следующих вариантах:
уничтожить огнем / нанося удар :
«Сожги мою головушку адский огонь», Смоленская губ. (Тенишев: 145), «В огне сгореть!», Нижегородская губ. (АРГО: 22) «Сгори мой дом» (Толковый словарь: 1: 479), «Разрази меня гром!» (СД: 2: 513), «порази меня Царь Небесный», Пермская губ. (Успенский: 40), «Мать Пресвятая Богородица, разрази мою грешную утробу», Смоленская губ. (Тенишев: 140) (см. разразить в значении ‘поражая, уничтожить’ (Толковый словарь: 4: 41), поражать – ‘наносить удар’ (Толковый словарь: 3: 321));
разрываться , трескаться :
«Лопни мои глаза. Лопни мое чрево», Смоленская губ. (Тенишев: 140), «тресни моя утроба!», Новгородская губ. (РК: 7: 172), «Разорви утроба!», Нижегородская губ. (АРГО: 22), «Дай, Господи, что бы мой лоб расскочился», Новгородская губ. (РК: 7: 205) (см. рас-скочиться в значении ‘расколоться, треснуть’ (фольк., костром.) (СРНГ: 34: 211));
отделяться от тела , выходить наружу :
«Отвались, мои руки-ноги», Тульская губ. (АРГО: 27), «Скатись моя голова с плеч», «Дай, Господи <…> чтобы из брюха кишки выползли», «Отсеки мою голову!», Новгородская губ. (РК: 7: 205);
изменять цвет (зачастую подобные тексты включают уподобление тела клянущегося объектам, составляющим предмет спора / иска):
«На межах божатся: почернеть бы, как сыра земля», Харьковская губ. (АРГО: 17); «…если украл у Егора копну или охапку сена с луга, то чтобы мне позеленеть зеленее пропавшей травы», Орловская губ. (Тенишев: 141) (подобная телесная трансформация свидетельствует об отклонении нормы, так как здоровое тело ассоциировалось с белым и красным (румяным) цветом; черный цвет в народной культуре символизировал болезнь и смерть (СД: 5: 513–515), а зеленый рассматривался как следствие болезни: «Он, после болезни своей, не только пожелтел, позеленел» (Толковый словарь: 3: 237));
деформировать :
«как этот ощепок изжарило и изсушило, жаром, так чтобы и меня свернуло и скорчило» (данную формулу произносил обвиняемый, поставив зажженный още-пок лучины на сутки перед иконой), Костромская губ., «…чтобы <…> меня перекосоротило», Орловская губ. (см. также упоминание об ожидаемом эффекте божбы: когда клянущийся «…будет целовать крест и икону, то у него перекосится лицо», Пензенская губ. (Тенишев: 140, 144, 141)), «скорчи выкорчи», Костромская губ. (РК: 1: 29), «Вздуй мое брюшенько выше колокольни!» (СД: 2: 513);
искалечить :
«чтобы <…> я бы объубожил» (как следствие гангрены), Орловская губ. (Тенишев: 145) (см. убогий в значении ‘увечный’, ‘калека’ (Толковый словарь: 4: 470)), «Чтобы <…> были бы мои дети калеками», Орловская губ. (Тенишев: 143).
Стоит отметить, что многие из упомянутых физических повреждений несовместимы с жизнью, то есть, по сути, должны повлечь за собой смерть клянущегося.
Популярной является также модель, связанная с лишением зрения, слуха, разума, сил, соков, способности говорить, двигаться, действовать:
«Чтоб мне ослепнуть!», Архангельская губ. (АРГО: 23), «Чтобы у меня потемнели глаза темнее темной ночи», Орловская губ., «Не видать мне Божьего храма», Смоленская губ. (Тенишев: 143, 140), «…не видать мне ничего», Тамбовская губ. (Астров: 50), «на себе креста не видать» (Паппе: 23), «Не увидь я света белого, солнышка ясного, родимых детушек (если подозреваемый холост, то говорит – родного отца с матерью)», «…моему первенцу не видать света!», Новгородская губ. (РК: 7: 172)
(предикат не видеть, как уже упоминалось, мог употребляться как в прямом, так и в переносном смысле; в данном случае за отсутствием контекста такие тексты весьма условно отнесены к модели ослепления; в текстах, где упоминаются святыни (храм, крест), актуальной оказывается и невозможность приобщиться к ним, а следовательно, разрыв связи с Богом), «Чтоб <…> оглохнуть» (Пословицы: 182), «…обезумей я», Орловская губ. (Тенишев: 145) (стоит отметить, что лишение ума в народных представлениях отнимало у человека и душу, уподобляло его животному и фактически приравнивало к мертвецу; приобретенное сумасшествие относилось к категории постыдных заболеваний и вело к социальной изоляции (Попов: 364, 369),
«Доведи Бог не поднять этой соломинки», Новгородская губ. (РК: 7: 205), «Чтоб мне через год засохнуть», «Отсохни у меня руки», «Отсохни язык», Смоленская и Орловская губ. (Тенишев: 140, 141, 142), «…через три дня высохните, дети», Вятская губ. (АРГО: 22), «Из-сохни моя душенька!», Новгородская губ. (РК: 7: 205) (в данном случае душа выступает как телесный орган (СД: 5: 249)),
«Если неправда, высуши меня, Господь, как эта палочка сухая» (в данном случае иссушение как достаточно популярная модель дублировалось и на акциональном уровне: клянущегося переводили через сухую палку), Симбирская губ. (АРГО: 13), «Околеть на месте» (ветл., костром.) (см. околеть в значении ‘стать неподвижным’, ‘замереть’ (костром.)) (СРНГ: 23: 136), «Отой-мись, рука и нога» (СД: 2: 513), «с места не сойти» (Астров: 50), «пусть святой крест не позволит мне встать», Костромская губ. (Левенстим: 23), см. также упоминание об ожидаемом эффекте ритуала: «…когда станет пить святую воду, то отнимется язык», Пензенская губ. (Тенишев: 141) (стоит отметить, что утрата способности говорить лишает человека власти, права голоса, веса, влияния и фактически уравнивает его с животным [8: 31, 34]).
Достаточно редко встречается модель, связанная с лишением возможности удовлетворить физиологические потребности / совершить физиологический акт: «…чтобы я до веку не наедался и постоянно был голоден», Орловская губ., «чтобы мне не разродиться», Костромская губ. (Тенишев: 143,140), «дай Бог не разродиться моей жене!», Новгородская губ. (РК: 7: 172) (в последних двух случаях очевидным последствием являлась смерть как матери, так и ребенка).
Следующая модель связана с невозможностью совершать действия, предусмотренные православным обиходом: «Да пусть же меня сама Пресвятая Богородица <…> не допустит и ко великому причащению», Тамбовская, Воронежская, Саратовская губ., «пусть же нам не будет подходу и под святое евангель», Тверская губ. (такая формула могла произноситься в контексте ритуала с целью выявления виновных, поскольку обряд зачастую предполагал целование Евангелия) (Муллов: 625–626), «Не дай, Бог мне разговеться!», «Не взложи я на себя креста!», Туль- ская губ. (АРГО: 22, 28). Лишаясь возможности совершать подобные действия, клятвопреступник автоматически утрачивал принадлежность к крестьянскому социуму, к категории «своих», православных (см. крестьянин в значении ‘крещеный человек’ (Толковый словарь: 2: 195)). Кроме того, это означало также утрату связи с Богом, воспринимаемую как духовная смерть, что обеспечивало клятвопреступнику незавидную участь как в земном, так и загробном мире. Стоит отметить, что клятвопреступление, согласно материалам Ярославской губернии, считалось в традиционной культуре тяжким грехом, соотносимым с забвением Бога (РК: 2: 274) и одновременно сближающим человека с нечистой силой: «В напрасне побожиться – чорта лизнуть» (Пословицы: 181).
Последняя модель, встречающаяся в клятвенных формулах, заключается в инициировании плохой доли на том свете: «Не дай моим мертвым деточкам разговеться!», Тульская губ. (АРГО: 27), «чтоб моим родителям на том свете места не было», Тульская губ. (РК: 6: 427). Здесь стоит также отметить, что исследователи, анализировавшие тексты проклятий, предполагают, что пожелание слепоты может также метафорически означать пожелание неблагополучного пребывания на том свете для проклинаемого, а не только для его усопших родственников. Так, Н. И. Толстой рассматривает болгарское проклятие «Да му ее не види!» в ряду пожеланий неблагоприятной посмертной участи «…чтобы ему, т. е. адресату, было ничего не видно на том свете» [13: 205], что подтверждается и материалами, приведенными М. В. Ясинской [15: 85]. Возможно, подобное метафорическое осмысление применимо и к тестам клятв, хотя данный вопрос нуждается в отдельной проработке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опираясь на анализ клятвенных формул, а также представлений, связанных с клятвопреступлением и его последствиями, можно реконструировать систему ценностей, значимых в рамках крестьянского сообщества. Самой важной витальной ценностью считалась, безусловно, жизнь. В силу табуированности темы смерти в крестьянской культуре она достаточно часто инициировалась посредством образных оборотов и эвфемизмов. Поскольку результатом клятвопреступления должна была стать неестественная, преждевременная кончина, зачастую не сопровождавшаяся соответствующими обрядами, считавшаяся «плохой» и грозящая опасными последствиями, можно утверждать, что особую ценность имела «правильная» смерть», то есть естественная кончина от старости, ритуально оформленная в соответствии с православными обычаями. Кроме того, в народной аксиологии обретала ценность и посмертная судьба человека, его загробная участь, которая, как и жизнь в земном мире, должна была быть благоприятной. Важнейшей витальной ценностью было также здоровье, осмысляемое не только как отсутствие болезней, но и как телесная целостность, то есть отсутствие увечий и наличие жизненных сил. С учетом образа жизни крестьян, утрата здоровья означала ограничение, а в некоторых случаях даже утрату социальных связей.
К категории трансцендентных ценностей относился Бог, утрата связи с которым интерпретировалась как духовная смерть. В то время как само по себе клятвопреступление осмыслялось как заб- вение Бога, сближающее человека с дьяволом, в текстах клятв этот мотив реализовывался в виде лишения возможности совершать действия, связанные с православным обиходом, что одновременно исключало клятвопреступника из категории «своих». Акцент на ценности социальных связей, в частности расширенных семейно-родственных, объединяющих в том числе умерших предков и потомков, обеспечивался за счет упоминания в качестве залога жизни, здоровья и благополучия ближайших родственников, причем, учитывая то, что в текстах объектом вредоносного воздействия часто являются дети, в качестве особой ценности следует рассматривать возможность сохранения и продолжения рода. Все эти ценности являлись первостепенными, на фоне которых имущественные интересы отступали на второй план.