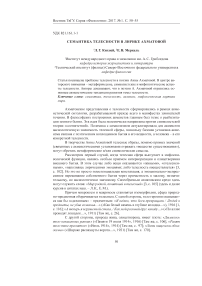Семантика телесности в лирике Ахматовой
Автор: Кихней Любовь Геннадьевна, Меркель Елена Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме телесности в поэзии Анны Ахматовой. В центре авторского внимания – метафорические, символистские и мифопоэтические аспекты телесности. Авторы доказывают, что в поэзии А. Ахматовой отразились основные акмеистические тенденции развития темы телесности.
Семантика, телесность, акмеизм, мифологическая картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/146122009
IDR: 146122009 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи Семантика телесности в лирике Ахматовой
Ахматовские представления о телесности сформировались в рамках акмеистической онтологии, разрабатываемой прежде всего в манифестах зачинателей течения. В философских построениях акмеистов главным был тезис о реабилитации земного бытия. Эта идея была полемически направлена против символистской теории «соответствий». Полемика с символизмом актуализировала для акмеистов аксиологическую значимость телесной сферы, поскольку базовая установка акмеизма связана с поэтическим воплощением бытия в его вещности, а человека – в его конкретной телесности.
В творчестве Анны Ахматовой телесные образы, помимо прямых значений (связанных с акмеистическими установками отражать «вещество существования»), могут обретать метафорические и/или символические смыслы.
Рассмотрим первый случай, когда телесная сфера выступает в мифосимволической функции, являясь особым приемом интериоризации и олицетворения внешнего бытия. В этом случае либо вещи оказываются «живыми», «отелеснен-ными», «наполняясь лирическими эмоциями; либо телесность овеществляется» [3, с. 102]. Но это не просто экзистенциальная констатация, а эмоционально-экспрессивное переживание собственного бытия через причастность к малому, незначительному, но аксиологически значимому. Своеобразным ахматовским кредо здесь могут служить слова: « Мир родной, понятный и телесный » [3, с. 105] (здесь и далее курсив в цитатах наш. – Л. К., Е. М.).
Причем микрокосм и макрокосм становятся изоморфными, сфера природно-предметная оборачивается телесным. С одной стороны, тело героини оказывается как бы «сделанным» – предметным: « Я ведаю, что боги превращали / Людей в предметы, не убив сознанья …» («Как белый камень в глубине колодца…»), 1916 [1, с. 116]; « А теперь я игрушечной стала, / Как мой розовый друг какаду… » («По аллее проводят лошадок…», 1911) [Там же, с. 26].
С другой стороны, природа жива, олицетворена, имеет плоть: «Дымилось тело вспаханных равнин» («Памяти 19 июля 1914», 1916) [Там же, с. 106], « Ранят тело твое пресвятое » («Июль 1914», 1914) [Там же, с. 97]; « Липы нищенски обнажены » («Широко распахнуты ворота…», 1921) [Там же, с. 170].
Аналогичная «пропорция» сохраняется и в позднем творчестве Ахматовой. Тело лирической героини сравнивается с космосом, в котором горит светило: « А с каплей жалости твоей / Иду, как с солнцем в теле » [Там же, с. 231]. Кроме того, ее тело настолько «космично», что способно объять фактически необъятное; имея в виду осень, Ахматова говорит: «К ней припала, ее обняла» («Вот она, плодоносная осень!», 1962) [Там же, с. 292]. Причем абстрактные понятия через телесный код могут сопрягаться с природными и звуковыми «субстанциями»: «Я стала песней и судьбой, / Ночной бессонницей и вьюгой» («Из “Черных песен”», 1960–61) [Там же, с. 290].
Логичным представляется и обратное соотнесение: природного / предметного и телесного. В поздней лирике Ахматовой таких примеров также немало, ср. метафору в стихотворении «Сожженная тетрадь» (1961): «Но вдруг твое затрепетало тело…» [Там же, с. 269], речь здесь идет о тетради. Еще пример – из стихотворения 1946 года: « В каждом древе распятый Господь, / В каждом колосе тело Христово… » [Там же, с. 238].
Из этих двух «пропорций» проистекает глубинный телесно-природный изоморфизм, отчетливо проявившийся в поздней ахматовской лирике, ср. в стихотворении «Родная земля» (1961): « Но ложимся в нее и становимся ею, / Оттого и зовем так свободно – своею » ([Там же, с. 291]. Тот же телесно-природный изоморфизм становится залогом бессмертия Поэта в стихотворении «Умолк вчера неповторимый голос…» (1960), посвященном памяти Бориса Пастернака: « Он превратился в жизнь дающий колос / Или в тончайший, им воспетый дождь » [Там же, с. 252].
Как бы живыми оказываются крупные топографические объекты. Такая тенденция особенно ярко проявилась в сороковые годы, и связана она в первую очередь с изменением лирического фокуса поэтессы: приходит время масштабных обобщений и углубленных рефлексий. Поэтому из сферы «больших понятий» в лирику Ахматовой приходят такие топонимы, как страны, части света, города: « Это рысьи глаза твои, Азия / Что-то высмотрели во мне » [Там же, с. 217]; « Не шумите вокруг – он <Ленинград. – Л. К., Е. М.> дышит, / Он живой еще, он все слышит… » [Там же, с. 208]; « Как в первый раз я на нее, / На Родину, глядела. / Я знала: это все мое – / Душа моя и тело » [Там же, с. 221]. Обратим внимание на последнюю цитату: здесь изоморфными оказываются тело лирической героини и Родина. Русская литература знает много случаев, когда Русь называлась поэтами матерью и даже женой, а вот у Ахматовой этот образ предельно интимизируется, входит в сферу «Я».
Что касается космических объектов (солнца, звезд), которые наделяются признаками живого, то чаще всего это справедливо в отношении луны. В мифологии она часто отождествлялась с глазом, у ранней Ахматовой также немало подобных соотнесений: « Как лунные глаза светлы, и напряженно / Далеко видящий остановился взор » [Там же, с. 166], «На него глядит звезда » [Там же, с. 154]; « И месяц, скучая в облачной мгле, / Бросил в горницу тусклый взор » [Там же, с. 222].
Теперь обратимся ко второму случаю телесной символики в творчестве Ахматовой. Так, телесные образы становятся способом раскрытия душевных переживаний. В этом случае они играют роль означающего , эксплицируя глубоко скрытые эмоциональные порывы лирической героини, выступающие в подобных случаях в роли означаемого.
Этот своеобразный «язык тела» выполняет те же функции, что и ахматовская детализованная предметность: «И, туго косы на ночь заплетя, / Как будто зав- тра нужны будут косы» [Там же, с. 66] («Вечерние часы перед столом…», 1913). Такое якобы бесполезное «телесное» действие выдает сильное сердечное волнение героини и является функциональным аналогом и «тюльпана в петлице», и перчатки, надетой не на ту руку.
Мир ранней ахматовской лирики наполнен большим числом неуловимых, но многозначительных прикосновений. И почти всегда за ними стоит напряженная любовная коллизия: «…беря цветы из рук несмелых, / Тронет теплую ладонь » («Синий вечер. Ветры кротко стихли…», 1910) [Там же, с. 34]; « Полуласково, полулениво / Поцелуем руки коснулся » («Как велит простая учтивость…», 1913) [Там же, с. 45]; « Он снова тронул мои колени / Почти не дрогнувшей рукой » («Прогулка», 1913) [Там же, с. 46]; « Он мне сказал: “Я верный друг!” / И моего коснулся платья » («Вечером», 1913) [Там же, с. 47]; « Ты только тронул грудь мою, / Как лиру трогали поэты… » («О, это был прохладный день…», 1913) [Там же, с. 79].
Как видим, чаще всего лирической героини касается субъект «он». Иногда это прикосновение несет боль и разочарование, иногда – оно свидетельство порочной страсти, иногда – глубокого любовного чувства. Но во всех случаях оно становится очень ярким событием, которое остро запечатлевается в женском сознании.
Ахматова может использовать параллелизм, образующийся на стыке ощущения тела – ощущения духа: « В пушистой муфте руки холодели. / Мне стало страшно, стало как-то смутно » [Там же, с. 29]; « Так беспомощно грудь холодела » [Там же, с. 30]. Во втором случае (в знаменитой «Песне последней встречи», 1911), вероятно, речь идет одновременно и о физическом холоде, и о душевном. Такое двуединство значений слова холод и его производных может быть вписано в межсубъектную антитезу, ср. в стихотворении «Мальчик сказал мне: “Как это больно!”» (1913): « Как беспомощно, жадно и жарко гладит / Холодные руки мои » [Там же, с. 56]. Главное здесь не в том, что руки героини физически холодны, а в том, что она холодна к «мальчику», в отличие от его «жаркого» чувства.
Начиная со сборника «Белая стая» телесность перестает играть архиваж-ную роль для самораскрытия лирической героини. Вероятно, Ахматова приходит к осознанию, что так широко эксплуатировать этот выразительный, но уже столь испытанный прием не стоит. Поэтому ощутимая телесность смещается у нее в сферу лирического «ты», более того – ее могут приобретать «бестелесные» сущности, например, Муза: « Муза ушла по дороге, / Осенней, узкой, крутой, / И были смуглые ноги / Обрызганы крупной росой» [Там же, с. 77].
Особое значение в «телесной эстетике» Ахматовой придается семантическому мотиву крови . Да и вообще у акмеистов он занимает особое место, благодаря чему приобретает миромоделирующие функции. В поэтике раннего акмеизма этот образ достаточно традиционен и чаще всего несет в себе семантику жизненной силы, витальности, любовной страсти, «телесности».
Вместе с тем акмеистические установки на пластическое отображение бытия и «овеществление» сознания приводят к интересному эффекту. В первых сборниках Ахматовой семантика крови становится психофизическим кодом, передающим внутреннее состояние героини. В «Вечере» и «Четках» часто встречаются образы «скучающей крови», крови, «отхлынувшей от лица» (маркирующей сильнейшего душевное волнение в цикле «Смятение»), крови, «стучащей» в висках или, напротив, «холодеющей» крови: « Все отнято: и сила, и любовь. / В немилый город брошенное тело / Не радо солнцу. Чувствую, что кровь / Во мне уже совсем похолодела » [Там же, с. 80].
В сборниках 1917–1923 годов мотив крови выводится из любовной семантической сферы и рассматривается через призму исторических катаклизмов, искажающих онтологическую сущность мира (подробнее см.: [4, с. 320–381]). Подтверждением этого становится появление – как и у позднего Гумилева – мотива жертвы, но не ритуальной демонической, а природно-языческой. Именно этот жертвенный мотив отражен в стихотворении 1921 года: « Не бывать тебе в живых, / Со снегу не встать. / Двадцать восемь штыковых, / Огнестрельных пять. <…> Любит, любит кровушку / Русская земля » [1, с. 167]
Истоки жертвенных мотивов, включая мотив самопожертвования, Ахматова связывала с началом Первой мировой войны, сопровождаемым мистическими знаками, напоминающими первую египетскую казнь или апокалипсические предвестия. Поэтесса прибегает к парафразам («красная влага»), мифопоэтически соотнося дождь с кровью. Причем в художественном пространстве цикла «Июль 1914» происходит не столько метафорическое отождествление этих субстанций, сколько демоническая подмена: « Не напрасно молебны служились, / О дожде тосковала земля: / Красной влагой тепло окропились / Затоптанные поля » [Там же, с. 97].
Молитвенная просьба народа о дожде во время небывалой засухи 1914 года была отвергнута. Вместо дождя пролилась кровь. В пространстве стихотворения как бы совершается поворот от христианства к язычеству, от молитвенного церковного ритуала – к языческой жертве. В мифологии славян кровь – одна из древнейших метафор дождя и воды.
В послереволюционном творчестве Ахматовой (как и в поэзии Гумилева и Мандельштама) мотив «крови» претерпевает существенные изменения и становится знаком «апокалипсического времени». Так, у Ахматовой наряду с прежней семантикой (как психофизического показателя внутреннего состояния) образ крови обретает новые – зловещие – коннотации. Эпитетом «кровавый» наделяются внешние атрибуты действительности – природные и исторические явления, бытовые вещи: « Облака плывут в крови », « кровавая цусимская пена », « В кругу кровавом день и ночь… », « …с сиделками тридцать восьмого / Мыла я окровавленный пол », « …Что там? Окровавленная дверь… », « В моей Москве кровавой… ». Все это, по Ахматовой, – свидетельства искажения онтологической сущности мира.
В постреволюционной поэзии Ахматовой появляется еще один мотив, связанный с семантикой крови, которого не было ни у Гумилева, ни у Мандельштама. Это мотив «кровавых рук», ярче всего отразившийся в известном стихотворении «Привольем пахнет дикий мед…» (1934): « И напрасно наместник Рима / Мыл руки пред всем народом, / Под зловещие крики черни; / И шотландская королева / Напрасно с узких ладоней / Стирала красные брызги / В душном мраке царского дома... » [Там же, с. 180].
Здесь Ахматова, как и Гумилев в «Огненном столпе», стягивает разные времена и пространства в единую семиосферу, стержнем которой является образ «несмываемой с рук крови». В одном смысловом ряду оказался образ Понтия Пилата с его знаменитым жестом «умывания рук» (в ознаменование того, что не на него падет кровь Иисуса Христа) и героиня шекспировской трагедии, пытающаяся смыть кровь со своих преступных рук. Смысловые излучения, исходящие из евангельского и шекспировского контекстов (подробнее см.: [2, с. 162–164], не только иллюстрируют этическое тождество, выстраиваемое в стихотворении («…кровью пахнет только кровь»), но и указывают, о какой именно «крови» идет речь в стихотворении – о крови казненных и замученных современников Ахматовой.
Ведь дело здесь не только в том, что преступления против человечности не имеют срока давности, но и в том, что Ахматова дает историософский анализ трагедии современности посредством исторических и литературных аналогий. Причем если у Гумилева этот анализ совершается с помощью «магического реализма», соединяющего реальность с мистическими видениями, то для Ахматовой важно остаться на исторической почве, поэтому леди Макбет она парафрастически именует «шотландской королевой» (намекая на один из возможных прототипов шекспировской героини – Марию Стюарт).
Подводя итоги, отметим, что телесная образность Ахматовой реализует акмеистические принципы миромоделирования, связанные с духовно-душевной, природной и вещно-вещественной сферами. Они наиболее ярко воплощают акмеистическую типологию изображения реального, данного в ощущениях мира. Вместе с тем отличительной особенностью поэтики телесности Ахматовой является ее ориентация на мифологическую модель мира. В итоге Ахматовой удалось создать цельную, внутренне детерминированную иерархическую систему миромоделирующих мотивов, находящихся в телеологической связи между собой и имеющих глубокую репрезентацию в психологической сфере.
Список литературы Семантика телесности в лирике Ахматовой
- Ахматова А. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1999. 448 с.
- Кихней Л. Г. Функции шекспировских и дантовских мотивов в поэзии Анны Ахматовой//Русская литература. 2014. № 2. С. 156-176.
- Кихней Л. Г., Полтаробатько Е. Д. Телесный код в поэзии акмеизма. М.: ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2014. 156 с.
- Топоров В. Н. Об историзме Ахматовой//Russian Literature. 1990. Vol. 28. № 3. Р. 277-418.