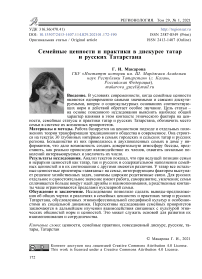Семейные ценности и практики в дискурсе татар и русских Татарстана
Автор: Макарова Гузель Ильясовна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социальная структура, социальные институты и процессы
Статья в выпуске: 1 (114) т.29, 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение. В условиях современности, когда семейные ценности являются одновременно самыми значимыми и самыми дискутируемыми, вопрос о социокультурных основаниях соответствующих норм и действий обретает особое звучание. Цель статьи - на основе поискового исследования выяснить наиболее общий характер влияния в этом контексте этнического фактора на ценности, семейные статусы и практики татар и русских Татарстана, обозначить место семьи в системе их жизненных приоритетов. Материалы и методы. Работа базируется на ценностном подходе и отдельных положениях теории трансформации традиционного общества в современное. Она строится на текстах 30 глубинных интервью в семьях городских и сельских татар и русских региона. Большинство из них проводилось в двухпоколенных семьях в доме у информантов, что дало возможность создать доверительную атмосферу беседы, представить, как реально происходит взаимодействие их членов, охватить несколько поколений интервьюируемых и увеличить их число. Результаты исследования. Анализ текстов показал, что при ведущей позиции семьи в иерархии ценностей как татар, так и русских в содержательном наполнении семейных ценностей и в их соотношении с другими имеются различия. У татар все остальные ценностные ориентиры «завязаны» на семье, интегрирующим фактором выступает решение хозяйственных задач, значимы широкие родственные связи. Для русских отдельное и самостоятельное значение имеют работа, саморазвитие, увлечения; семья сплачивается больше вокруг идей дружбы и взаимопонимания, а родственные контакты чаще ограничиваются пределами нуклеарной семьи. Обсуждение и заключение. Исследование позволило сделать выводы-предположения об общих чертах и различиях в семейных ценностях и практиках татар и русских Татарстана, обусловленных этноконфессиональной спецификой культур и особенностями их социальной динамики. Перспективы исследования семейных приоритетов заключаются в дальнейшем изучении взаимодействия связанных с культурой этнических общностей норм и ценностей. Это может служить основой для развития их взаимопонимания и сотрудничества.
Ценности, семейные практики, повседневный дискурс, русские, татары, татарстан
Короткий адрес: https://sciup.org/147222873
IDR: 147222873 | УДК: 316.36(470.41) | DOI: 10.15507/2413-1407.114.029.202101.172-190
Текст научной статьи Семейные ценности и практики в дискурсе татар и русских Татарстана
Введение. Ценность семьи в современном мире выступает одной из самых значимых и самых дискутируемых. В условиях, когда под вопрос ставятся не только гендерные роли супругов, но и само понимание семьи, представляется актуальным изучение соотношения традиционного и современного в семейных ориентациях и практиках различных групп населения, влияния на них культуры, и этнокультур в частности.
Российскими учеными сегодня наиболее активно разрабатывается тематика взаимодействия институтов семьи и государства, образования, социальные проблемы – особенно молодых семей [1; 2], изучаются гендерные роли [3] и тенденции изменения семейных взаимоотношений в контексте глобализации [4; 5]. Однако исследования, фокусирующиеся на значении в этих процессах культуры, немногочисленны. Даже в случае, если речь ведется о семьях представителей различных этнических групп, влияние на них этнокультурных факторов редко рассматривается специально. Такая постановка вопроса позволила бы, однако, многое прояснить в той разнице (и одновременно в связанной общемировыми тенденциями схожести), которая существует в понимании семьи и ее соотношения с другими сторонами человеческой жизни в различных странах мира и у относящих себя к разным этнокультурным общностям в рамках одного социума. Тем более это та сфера, в которой дольше всего сохраняется влияние этнических и конфессиональных традиций.
Цель статьи – опираясь на результаты проведенного исследования, выделить некоторые общие черты и различия в семейных практиках, в статусных позициях мужа и жены, родителей и детей у татар и русских Татарстана, обозначить место семьи в иерархии ценностей. Близкий к повседневному дискурс данных вопросов позволил проявить те нормы, на которые ориентируются в изучаемой сфере представители названных этнических групп, выяснить в первом приближении тенденции их устойчивости/изменчивости под влиянием городского/сельского контекста, взаимодействия культур и трансформации института семьи в современном обществе. Результаты исследования, носящего пилотажный характер, могут стать основой для разработки инструментария массового социологического опроса населения региона. Их рассмотрение важно, поскольку семья и ее приоритеты продолжают в определенной мере влиять на отношение социальных субъектов к труду, карьере, продвижению, к богатству и к другим людям, сказываясь на их поведении в различных сферах социальной жизнедеятельности.
Обзор литературы. Теоретическая рамка исследования выстраивается на пересечении двух подходов: ценностного – берущего начало в работах М. Ве-бера1, видевшего в ценностях воплощение направленности и содержания культуры той или иной эпохи и народа2; и подхода к анализу социокультурной динамики Э. Гидденса, рассматривавшего происходящие в обществе (в том числе в семье) изменения в перспективе его фундаментального перехода от традиционного к модерному3.
Что касается собственно этнического аспекта семейных ценностей, то он имеет давние традиции изучения в отечественной науке, что связано с этнокультурным многообразием социума. Еще в советский период – с 1960–1970-х и до начала 1990-х гг. ‒ вышла серия работ по семейным традициям и нормам определенных народов. С. Курогло писал о семейных обрядах гагаузов, М. Я. Устинова ‒ городских латышей, Н. В. Бикбулатов и Ф. Ф. Фатыхова ‒ о семейном быте башкир. Белорусские семьи в Латвии исследовала Р. А. Григорьева, семьи таджиков ‒ Л. Ф. Моногарова; в этнорегиональном контексте сельская семья изучалась М. Г. Панкратовой. Специально следует выделить книгу «Социальное и национальное»4, в которой давался сравнительный анализ размера семей татар и русских Татарской АССР, их материального уровня и роли женщины в семье5.
В 1990-х – начале 2000-х гг. в исследовании этносоциальных процессов на первый план выходят иные, более острые на тот период проблемы, связанные с этнокультурной и языковой политикой, миграцией и т. д. В последнее десятилетие интерес к этническим аспектам семейной жизни возрождается, причем появляющиеся работы чаще выполнены в русле этнологии и социальной антропологии. Назовем в связи с этим монографию «Семья и этничность в Литве»6, статьи Б. Б. Абдулвахабовой7, Э. В. Екеевой [6], Х. О. Хушкадамо-вой и др. В вышедшем в Татарстане сборнике «Сохраняя вековые традиции семьи» представлены семейно-брачные отношения народов, издавна проживающих на территории республики8. Отдельная глава посвящена татарским семьям в книге «Татары»9.
В то же время работы, в которых раскрываются современные тенденции развития семей с точки зрения влияния на них этноконфессионального
- фактора, единичны. В контексте проблем модернизации и снижения значимости этнической культуры их рассматривает Н. Ф. Беляева. Она подчеркивает «количественные и качественные изменения мокшанской сельской семьи» [7, с. 75], когда молодые люди стремятся к самореализации больше за счет профессиональной деятельности. Г. И. Галиева, изучая особенности демографического воспроизводства у татар, связывает их с выбором супруга/супруги на основе принципов рационального экономического поведения и со стремлением сохранить традиционные семейные ценности10. Вопрос о роли возрождающихся в России религиозных традиций в данных процессах поднимается М. Ю. Тюлиным11, С. В. Мерзляковой [8], Г. И. Галиевой [9], А. А. Ярлыка-повым [10]. В свою очередь, на значении семьи в поддержании этнических и конфессиональных идентичностей концентрируют внимание Ф. А. Гаджа-лова12, Ч. И. Ильдарханова [11], Ю. В. Табакаев и Е. В. Благовская [12]. Из зарубежных авторов в этом ключе работают А. Ихван, О. Ф. Бианторо и А. Рох-мад [13] и др.
Что касается собственно семейных ориентаций и практик, в зарубежной науке к их изучению обращаются Д. Морган [14], П. Нурдквист [15] и др. Так, известный представитель социологии семьи Д. Морган предлагает сделать предметом анализа не то, чем семья «является» (как она осмысливается ее членами), а собственно саму «семейную жизнь как совокупность видов деятельности» [14, р. 6]. Для него и ряда других ученых (например, М. В. Го-родилиной [16]) исследовательским объектом становятся привычки членов семьи, их повседневные действия, включая ритуалы. Некоторые социологи стремятся объединить рассмотрение ценностных ориентиров и практик. В частности, П. Нурдквист исследует повседневную жизнь семей, с одной стороны, и дискурсы, в которых происходит осмысление того, чем семья является для ее членов – с другой [15]. Отдельные примеры раскрытия современных ценностей и норм поведения в семьях представителей различных национальностей находим в статьях Л. Желинскене и М. Илика [17], У. Ху и Дж. Скотта [18], Н. Панасенко [19], из отечественных авторов ‒ О. С. Павловой [20], Н. Н. Азисовой [21], Г. П. Звездиной и К. В. Исмаилова [22].
Таким образом, несмотря на наличие в российской науке целого пласта монографий и статей, посвященных поиску сохраняющихся в семейных практиках народов элементов традиционной культуры, исследования влияния характерных для нее норм и ценностей ‒ в их сочетании и взаимодействии с модерными ‒ на различные аспекты современной социальной жизни и специфику их проявления, как в России, так и за рубежом, немногочисленны.
Материалы и методы. Оптимальным для проникновения в ценностный мир и изучения повседневных практик респондентов является метод глубинных интервью. Они проводились в семьях в 2017‒2018 гг. (n = 30)13. Это были двухпоколенные семьи, состоящие из детей (16‒30 лет) и их родителей (39‒60 лет), которые дополнялись «молодыми» семьями (где оба супруга в возрасте 18‒33 лет). Соответственно методика являлась схожей с групповыми фокусированными обсуждениями, и интервьюер по сути выступал в роли модератора14. Обсуждения проходили в доме у интервьюируемых, в неофициальной обстановке, что способствовало созданию максимально комфортной ситуации общения и сближению дискурса с повседневным15. Они дали возможность сравнить два поколения и увидеть воочию, как строятся взаимоотношения в семьях, происходит процесс формирования мнений в них, а также охватить бóльшее число информантов (от двух до пяти в каждом случае).
Объектом исследования выступили татары и русские – две наиболее многочисленные этнические группы Татарстана16, совместно проживающие на одной территории, разделяющие общую судьбу и институциональные практики. В то же время это общности, каждая из которых имеет свои традиции и культуру, исторически связанные с разными конфессиями – исламом и православием. Предполагалось, что интервью позволят проявить не только общее, но и особенное в содержании их ориентаций на семью и в нормах поведения17. Мы также исходили из гипотезы о несколько бóльшей приверженности татар традиционным ценностям по сравнению с русскими. С тем, чтобы прояснить влияние городского и сельского контекста, 17 интервью были проведены в Казани, 13 ‒ в сельских районах Татарстана18. Выбор интервьюируемых производился с применением метода поиска телефонного номера в записных книжках знакомых, причем соблюдалось требование отсутствия личных связей между интервьюером и информантами до начала рекрутирования.
Гайд строился вокруг вопросов, направленных на выяснение ценностных ориентаций и организации повседневной жизни татар и русских республики.
РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 29, № 1, 2021 У^У -Отдельная тема посвящалась семье. Здесь информанты говорили о принятом в их доме положении вещей - о ролях мужа и жены, родителей и детей, старших и младших - и о том, каким оно, на их взгляд, должно быть. Важным моментом этапа сбора данных являлось заполнение исследователями дневников интервью, в которых должна была фиксироваться вся информация, не отраженная в записи диктофона. В частности, отмечались этноконфессиональные особенности наблюдаемого в процессе опроса быта.
Полученные в ходе качественного исследования данные невозможно квантифицировать, применить к ним процедуры количественного анализа, поэтому для интерпретации результатов использовался метод трехступенчатого кодирования. Первый этап заключался в сплошном прочтении текстов интервью и дневников, на основе чего составлялись аналитические записки (мемо) двух типов: а) фиксирование наиболее интересных высказываний, оценок; б) записи операционального свойства, заключающиеся в уточнении аналитических ходов и новых идей. Второй этап - осевой - выражался в прочтении составленных мемо для конструирования аналитического стержня (оси). Последний этап состоял в еще одном «проходе» сквозь тексты с целью выявить наиболее яркие примеры и факты, иллюстрирующие выдвинутые гипотезы и идеи.
Результаты исследования. Сразу после знакомства и выяснения, откуда родом наши информанты, мы спрашивали, что для них важно в жизни, что стоит на первом месте. Практически всеми ‒ представителями обеих этнических групп, женщинами и мужчинами различных поколений ‒ семья была названа главным жизненным приоритетом (что подтверждает выводы других исследователей о ее первоочередной значимости в современном обществе [4, с. 225]). Это делает понятными друг для друга их установки и действия.
Вместе с тем уже в самом характере артикуляции данной ценности обнаруживались различия. Так, интервьюируемыми из числа татар она понималась как некое ядро, вокруг которого все выстраивается: «Поскольку я глава семьи ‒ в ответе за каждого члена семьи. Ответственность какая-то, чтобы стабильность… была, чтобы я мог обеспечить эту стабильность семейную» (№ 1, тат., муж., 42 г., город Республики Татарстан). Работа, экономическое благосостояние трактуются ими как значимые с позиции достижения благополучия семейной группы. Русские-горожане, отмечая важность воспитания детей, здоровья и достатка членов семьи, в качестве отдельных и самостоятельных ценностных ориентиров указывали самореализацию, работу, наличие друзей19: «Для меня… семья на первом месте. Второе ‒ карьера, ну, работа, потому что мне соответственно нравится. Вот дальше ‒ собственные увлечения <…> саморазвитие, …хобби, любимое занятие» (№ 1, рус., муж., 25 л., город Республики Татарстан) .
J^
На селе позиции русских участников интервью оказались ближе к татарам: «Семья. Во-вторых, работа… На работу хожу, потому что надо детей кормить!» (№ 9, рус., муж., 56 л., село Республики Татарстан). Различия, тем не менее, были и здесь: если у русских дискурс семьи чаще строился вокруг членов своей малой нуклеарной группы, относящие себя к татарам часто имели в виду также обширный круг родственников.
Многим татарам-горожанам, особенно в первом поколении, сохранение расширенных семейных связей тоже оказалось значимым; причем связи эти часто выстраиваются вокруг «родового гнезда»: «Эпицентром нашего семейного родства является она ‒ наша бабушка… Потому что она в 98 лет… курирует ‒ кто, как и с кем общается, кто как живет, кто кому должен помочь. Сидит бабушка в деревне как кóза ностра» (№ 1, тат., муж., 42 г., город Республики Татарстан). Хотя в условиях большого города они редко живут рядом, у многих принято общаться, и не только в связи с особыми событиями, но и с необходимостью помочь кому-то из родных в ремонте, строительстве дома/дачи/бани.
Казанцы-русские в еще бóльшей мере, нежели сельчане, отмечали, что им не характерны широкие родственные контакты. «Мы не придаем этим связям такого уж… сакрального значения, как… у таких традиционных народов, как грузины, евреи… татары… Сейчас в России как-то люди… привязаны к работе. <^> Еще и темп жизни, и соцсети очень способствуют разобщенности» (№ 4, рус., жен., 53 г., город Республики Татарстан). К утере связи с родственниками ведет и то, что у многих русских они «разбросаны» по стране. Хотя и среди них были единицы, у кого заведено собираться широким кругом.
Различия обнаруживались и в самом содержании семейных ценностей. Так, татарами часто акцентировалась значимость совместного решения хозяйственных задач для поддержания семейства (т. е. в некоторой мере семья сохраняет для них значение некоей «экономической ячейки», что, по Э. Гидденсу, свойственно традиционным обществам20): «Сыерларны… карыйбыз, сарыкларыбызны карыйбыз, эш ^итэрлек. .. .Эзрэк эйбэт яшисе килэ! / Коров смотрим, овец смотрим, работы хватает. …Хочется немного получше жить!» (№ 4: 1 ‒ тат., муж., 64 г., 2 ‒ тат., жен., 60 л., село Республики Татарстан). В то же время подобная установка (что становилось очевидным из общего контекста интервью) не препятствует модернизации в других сферах жизни и даже становится дополнительным фактором, побуждающим к достижениям в труде.
Интервьюируемыми родителями-татарами (особенно сельчанами) также артикулировалась важность воспитания в детях дисциплинированности, послушности и уважения к старшим, т. е. норм, характерных для традиционных культур. Молодежь со своей стороны отмечала, что стремится оправдывать
У^У -их ожидания: «В первую очередь, чтобы мой отец мной гордился» (№ 3, тат., муж., 17 л., село Республики Татарстан).
Русскими жителями Республики Татарстан старшего поколения (в первую очередь сельчанами) подчеркивалась необходимость сохранения в доме спокойствия и душевной гармонии, атмосферы заботы, дружбы и взаимопонимания. Отметим, что подобные семейные ценности принято считать воплощением русской и православной культуры: «Доброта, помощь, взаимовыручка ‒ все те человеческие ценности, которые... важны» (№ 4, рус., жен., 53 г., город Республики Татарстан). Дети поддерживали их: «Как бы банально это ни звучало ‒ это хорошая, крепкая, дружная семья» (№ 8, рус., жен., 22 г., село Республики Татарстан). Причем парадоксальным образом эти характеристики оказывались в некоторой мере перекликающимися с теми, что характеризуют, по Э. Гидденсу, семью позднего модерна – превращающуюся в союз, основанный на эмоциональных запросах людей.
Отдельная тема гайда выстраивалась вокруг принятых в доме взаимоотношений и практик. Примечательно, что во всех интервью, взятых у татар, главным признавался муж/отец. В одних случаях это высказывалось в безапелляционный форме: «Монда… ата әйткән закон инде!.. Бу йортта шулай принято. / Здесь... слово отца закон!.. В этом доме так принято» (№ 3, тат., муж., 51 г., город Республики Татарстан). В других звучало менее категорично: «К мнению друг друга мы прислушиваемся <„> Но, алай да (все же -тат.), преобладает, наверно, его [мнение] „.Что он скажет, шуны тырышабыз инде утэргэ, барыбер / стараемся выполнять все равно» (№ 2, тат., жен., 42 г., село Республики Татарстан). А в одном из обсуждений такое положение обосновывалось нормами ислама: «Аллах… ир кешегә хуҗа булу сыйфатларын бирде / Аллах… наделил мужчину качествами хозяина (главного)» (№ 6, тат., муж., 50 л., село Республики Татарстан). Молодые люди, в свою очередь, замечали, что стремятся воспроизвести заложенную в родительской семье модель. Причем даже если женщина занимает ведущее положение (что было очевидным из контекста интервью), она обычно не подчеркивает это, поддерживая стереотип «должного» соотношения ролей.
Все это сказывается на распределении обязанностей в доме. В качестве нормативного татарами порой провозглашалось следующее. Муж несет ответственность за благосостояние семьи, принимает главные решения; по дому выполняет работу, принятую считать мужской. Жена может работать, но ее доход не должен быть основным; на ней лежит благоустройство дома, приготовление пищи и воспитание детей: «Главное со стороны мужчины, я считаю, заработать деньги. Распределяет, быт создает… жена» (№ 5, тат., муж., 53 г., город Республики Татарстан). Стоит, однако, заметить, что на деле подобное соотношение редко встречалось в чистом виде. Причем закреплению его, видимо, в некоторой мере способствовало «этноконфессиональное возрождение» 1990-х ‒ начала 2000-х гг. в Республике Татарстан, когда СМИ, система национального образования активно продвигали трактуемые как традиционные для татар нормы.
Информанты-русские – как горожане, так и сельчане ‒ ощутимо чаще указывали, что в семье нет главных, и отношения строятся на равных: «У нас нет главного… Ни матриархат, ни патриархат. У каждого есть свои как бы направления, …обязанности, которые все знают» (№ 8, рус., муж., 46 л., село Республики Татарстан). Основные решения принимаются сообща: «Мне кажется, все всегда обсуждается, лидера нет» (№ 6, рус., жен., 18 л., город Республики Татарстан). Зарабатывает каждый в меру возможностей, о чем не стесняются говорить: «…То муж больше зарабатывал, то я больше зарабатывала, то одинаково» (№ 9, рус., жен., 59 л., город Республики Татарстан). Таким образом, они скорее воспроизводили характерную для современного ‒ в отличие от традиционного ‒ общества схему.
Среди русских все же встречались случаи, когда муж объявлялся главой дома. К примеру, в одной из семей сельчан (ведущих происхождение от старообрядцев) жена подчеркивает: «Последнее слово за хозяином» (№ 11, рус., жен., 39 л., село Республики Татарстан). Однако даже если главный доход приносит мужчина, обязанности по дому редко делятся ими на «мужские» и «женские». «Человек [муж] …не гнушается никакой там женской или какой работы… точно так же, как его папа, – рассуждает женщина, муж которой зарабатывает существенно больше нее. ‒ То есть, мы можем вместе убираться, мы обязательно вместе ходим в магазин, и никогда в этом у нас не было проблем что ли или каких-то непониманий» (№ 2, рус., жен., 49 л., город Республики Татарстан). У сельчан в распределении обязанностей оказалось больше общего с татарами (в частности, тяжелую работу по двору выполняют прежде всего мужчины).
Далее рассмотрим отношения родителей и детей, старших и младших. Анализ ответов на вопросы подтвердил, что повиновение родителям, старшим – ожидаемая для татар, особенно сельчан и выходцев из села, норма: «Прямо папа сказал ‒ мы должны слушаться. То же самое с мамой (№ 6, тат., жен., 17 л., село Республики Татарстан). Татары старшего поколения ‒ горожане нередко вспоминали, как это происходило в их родительской семье: «Мы привыкли к тому, что мы слушались… Их слово было законом, конечно» (№ 7, тат., жен., 51 г., город Республики Татарстан). Правда сегодня их общение с собственными детьми несколько отличается: «Да, другое поколение. Надо с детьми разговаривать. Надо к ним прислушиваться. <…> У нас в семье не было такого» (№ 5, тат., жен., 54 г., город Республики Татарстан).
Что касается взаимодействия между самими детьми, у татар (особенно сельчан) оно часто выстраивается по правилам субординации: от младших требуют послушания, на старших возлагается ответственность за младших. «Так и должно быть, если он [старший] прав. Если он не прав, все равно прав» (№ 6, тат., муж., 42 г., город Республики Татарстан). В сельских и в не-
- которых городских семьях уважительное отношение младших детей к братьям и сестрам проявляется и в том, что их называют «абый/апа» (принятые к мужчине/женщине, старшим по возрасту обращения).
В ходе интервью в семьях русских, особенно горожан, не акцентировалось почитание детьми родителей. Молодыми людьми отмечалось, что они, хотя и выслушивают мнения мам и пап, выстраивают свои стратегии, т. е. представители данной группы менее склонны к традиционалистскому поведению: «Где-то прислушиваемся, конечно. …В финансовом плане иногда прислушиваемся… Но в основном… стараемся ограничить… мнение родителей, особенно… чтобы они не лезли в карьеру, учебу…» (№ 1, рус., муж., 25 л., город Республики Татарстан). Проговаривались и возникающие с подрастающими детьми конфликты, объяснявшиеся родителями особенностями переходного периода: «Пока рос, до 14‒15-ти, был беспроблемный ребенок. Потом взросление ‒ все-таки мальчик. Свое “Яˮ начало перегибаться. Потом переломный возраст. Уже сложнее стало» (№ 7, рус., жен., 53 г., село Республики Татарстан).
Подобного рода сложности в определенной мере есть и у татар, но об этом не принято говорить, поскольку непослушание потенциально осуждается группой. В то же время родители-русские указывали, что стараются не ставить детям жестких запретов: «…От нее [дочери] ничего не требовалось сверхъестественного никогда… У нее достаточно много свободы» (№ 5, рус., жен., 49 л., город Республики Татарстан). Они также отмечали, что могут признать правоту детей в споре.
Обсуждение того, спрашивали ли дети (станут ли спрашивать) мнение родителей относительно брачных партнеров, показало, что молодые горожане-русские скорее не склонны ориентироваться в данном вопросе на родителей: «Я сначала решу сама, потом просто сначала поставлю в известность маму» (№ 5, рус., жен., 21 г., город Республики Татарстан). Кто-то указывал, что может пойти замуж/жениться вопреки их воле: «Лично я считаю, что если родители… будут против, а я буду вот прямо уверена, что это мой человек, то наверно я их не послушаю» (№ 6, рус., жен., 18 л., город Республики Татарстан). И только отдельные русские-казанцы признавались, что для них важно, что скажут родители. Наши предположения о бóльшей традиционности в этом плане сельских русских мало оправдались: «Если вот, как сейчас он есть уже, и, дай Бог, если все сложится, то нет, наверное, не буду [интересоваться мнением матери/отца по поводу жениха]» (№ 8, рус., жен., 23 г., село Республики Татарстан).
Уже будучи родителями, русские ‒ горожане и сельчане ‒ отмечали, что допускают относительную свободу в выборе спутников жизни детьми. Они рассказывали, что и сами не знакомили с ними отца/мать заранее: «Мою [маму] перед фактом поставили. Мать удивилась ‒ “Что так сразу?ˮ» (№ 5, рус., муж., 33 г., село Республики Татарстан). Ими подчеркивалось, что женитьба – личное дело детей, и они не собираются в это вмешиваться: «А мы скажем ‒ “Решайте сами!ˮ» (№ 8, рус., жен., 42 г., село Республики Татарстан).
В муже/жене молодые горожане-русские, согласно данным интервью, хотят видеть прежде всего определенные личностные качества и их близость собственным: «…Увидел Наташу ‒ легко разговаривать, для меня это надежный на данный момент… спутник» (№ 3, рус., муж., 23 г., город Республики Татарстан). Ряду девушек значимо, чтобы их избранник был образованным, другим – целеустремленным, третьим – чтобы умел зарабатывать деньги. Информантам-сельчанам оказалась важной доброта, способность понять, девушкам также – отношения на равных с супругом: «Должен быть добрый, мужественный, чтоб уважал, руки не поднимал в любом состоянии» (№ 9, рус., жен., 31 г., село Республики Татарстан). Некоторые указывали, что муж должен быть работящим, а жена ‒ уметь обустроить быт.
Городские родители-русские говорили о необходимости взаимопонимания и ответственности супругов. Сельчане вновь артикулировали важность таких характеристик, как доброта и благоприятная атмосфера в доме: «Самое главное, чтоб жили дружно» (№ 10, рус., 48 л., село Республики Татарстан). Отдельными интервьюируемыми высказывались пожелания, чтобы будущие жены/мужья детей были той же национальности, веры. Однако и в этих случаях признавалось, что если сын/дочь полюбит человека иной этнической/ конфессиональной принадлежности, они не будут препятствовать браку.
Нужно обратить внимание на то, что в пожеланиях родителей русских и татар по отношению к избранникам детей было много общего. И те, и другие хотели бы, чтобы их детей любили. Матери девочек указывали на значимость уважения к дочерям со стороны мужей, а ряд информантов желали, чтобы социальные статусы будущих супругов были схожими.
Интервьюируемые поколения детей ‒ и русские, и татары ‒ подчеркивали значимость того, чтобы они с супругом/супругой были не безразличны друг другу: «Просто любить ‒ не обязательно за что-то» (№ 12, рус., жен., 21 г., село Республики Татарстан). Далеко не последнюю роль играет при этом внешность: «Понравилась чтоб мне. Красивая чтоб была» (№ 4, тат., муж., 19 л., село Республики Татарстан). Это характерно для современной модели брака в целом, выстраивающейся ‒ в отличие от традиционной ‒ по большей мере вокруг романтической любви, «эмоциональной связи или близости»21 и сексуального тяготения партнеров.
Были, однако, и отличия. В частности, в ходе интервью в татарских семьях – сельских и городских ‒ нередко высказывались особые пожелания к супругам сыновей. Они должны заботиться о муже и детях, быть хозяйственными, уметь готовить и следить за чистотой: «Кулыннан эш килә торган булса <…> Тәмле ашарга яраталар алар, шул критерийларга туры килә торган булса / Чтобы из их рук работа шла <…> Они [сыновья] любят вкусно поесть, чтобы этим критериям соответствовала» (№ 3, тат., муж., 42 г., село Республики Татарстан). Говорилось также, в первую очередь на селе, о важности следования жен/невесток определенным моральным нормам и принципам – в чем можно усмотреть влияние ислама (а в некоторой мере – и сохранения элементов патриархального уклада). Не случайно подобного рода высказывания порой подытоживались следующим образом: «Нормальный моселман ха-тыны булырга тиеш инде… Анда все включено, раз уж моселман кызы икэн / Нормальная мусульманская жена должна быть… Там все включено, раз уж мусульманская девушка» (№ 3, тат., муж., 51 г., город Республики Татарстан). В связи с этим нередко подчеркивалось, что жена сына должна быть татаркой, а муж дочери ‒ татарином. Многие дети поддерживали родителей в этом вопросе. Хотя и среди представителей данной этнической группы были артикулировавшие, что им не важна национальность супруга/супруги, избранни-ка/избранницы детей.
Молодые информанты ‒ в том числе весьма «продвинутые» во всех смыслах, модернизированные в профессиональной сфере татары ‒ также часто говорили о важности уважительного отношения их будущих жен/мужей к старшим. Это может быть очередным подтверждением того, что приверженность традициям вовсе не исключает модернизацию [23]. Об актуальности для них названной нормы свидетельствует и заявлявшаяся в ходе интервью готовность большинства представителей молодого поколения татар познакомить родителей со своим мужем/женой заранее: «Ее познакомлю с семьей, посмотрю, как каждый реагирует. Если всех все устраивает, то уже можно жениться» (№ 6, тат., муж., 17 л., город Республики Татарстан). Однако единицы заявлявших, что будут принимать решение сами, были и здесь.
Вопрос об авторитетах – то есть о людях, на которых информанты равняются ‒ оказался также тесно связанным с семейными ценностями. Анализ текстов обнаружил ощутимо бóльшую потребность татар в их наличии, в чем в очередной раз ‒ показатель их бóльшей традиционности. При этом теми, на кого они ориентируются в поступках и мыслях, выступают прежде всего их старшие родственники22: «Естественно, к мнению родителей прислушиваюсь. Авторитеты ‒ опять-таки родители» (№ 3, тат., жен., 19 л., город Республики Татарстан); «Если мы не можем сами решить, если в этом вопросе мой отец не поможет… тогда Голия апага (тете Галие – тат.) позвоним. Что она скажет, то и сделаем» (№ 2, тат., муж., 43 г.; жен., 42 г., село Республики Татарстан). Среди качеств, достойных подражания, татарами главным образом выделялись те, что важны для семейной жизни ‒ следование моральным нормам, ответственность, забота: «У нас отец с матерью были примером. Они красиво и долго жили вместе… перед нами никакого плохого слова не сказали, никаких деяний не совершали плохих» (№ 3, тат., муж., 42 г., село
Республики Татарстан). Для части информантов, особенно сельчан, значимо умение человеком (чаще родственником) что-либо делать своими руками. Лишь в исключительных случаях информанты-татары признавались, что они не стремятся быть на кого-то похожими: «У меня всегда свое решение» (№ 1, тат., муж., 31 г., село Республики Татарстан).
Русские, напротив, по большей мере заявляли, что у них нет авторитетов: «Стараюсь скорее своей головой думать» (№ 1, рус., муж., 25 л., город Республики Татарстан). Хотя, начиная размышлять, часть из них, особенно сельчан, упоминала мать/отца, родителей супруга/супруги, дедушку/бабуш-ку; причем указывались не только старшие по возрасту родственники: «Бывает, и к мнению сына прислушаешься. Тоже умные мысли скажет» (№ 8, рус., муж., 46 л., село Республики Татарстан)). И даже выделявшие кого-либо в роли авторитета, нередко добавляли, что решения принимают самостоятельно. Характерными для русских были и ответы, где ими назывались знаменитые художники, спортсмены, путешественники («Я очень сильно прямо вот завидовал людям, которые в творчестве… Например, Роберт де Ниро <…> И по поводу жизни, я очень завидовал, например, Жаку Кусто» (№ 7, рус., муж., 46 л., город Республики Татарстан)), профессионалы в той сфере, к которой они относятся, сослуживцы либо просто увлеченные делом люди.
Обсуждение и заключение. Исследование позволило сделать выводы-предположения об общих чертах и различиях в семейных ценностях и практиках татар и русских Татарстана, обусловленных этноконфессиональной спецификой культур, с одной стороны, и особенностями трансформации семьи в условиях фундаментальных изменений в современном обществе ‒ с другой. Оно подтвердило бóльшее стремление татар придерживаться своих традиционных семейных ценностей и моделей поведения. Отношения в семье чаще строятся ими на более четко закрепленных нормах и принципах; более очевидно разграничение статусных позиций мужа/жены, родителей/ детей; артикулируется важность воспитания в детях дисциплинированности и послушности. Однако все это не мешает модернизации в других сферах их жизнедеятельности. У информантов-русских взаимодействия в семье менее регламентированы; нет однозначного разделения ролей мужчины/женщины, четкой субординации между родителями и сыновьями/дочерями, старшими и младшими детьми.
При том, что семья занимает ведущие позиции в ценностной иерархии и у интервьюируемых-русских, и у татар, была обнаружена разница в ее соотношении с другими ценностями. У татар все другие ценностные ориентиры выстраиваются вокруг семьи; русскими (особенно горожанами) нередко указывалось на отдельное и самостоятельное значение саморазвития, карьеры, наличия друзей.
Интервью проявили отличия в содержательном наполнении семейных ценностей. Если для татар более важны вопросы экономического благопо-
- лучия семьи и решения хозяйственных задач, то для русских ‒ гармонии во взаимоотношениях, создания в доме атмосферы добра и взаимопонимания. Разница заключается и в ощутимо большей приверженности татар (особенно сельчан и выходцев из села) сохранению широких родственных связей, в важности для них авторитетов - что также связано с ориентацией на мнение родственной ингруппы. Русские реже равняются на других, а авторитетами для них могут выступать не только родственники, но и знаменитые личности, профессионалы своего дела. Обозначенные особенности формируются на пересечении действия этнических, конфессиональных, демографических (город/село) факторов в контексте глобализации.
При определенных различиях общего в семейных ценностях и практиках представителей двух, наиболее многочисленных в регионе, народов больше.
Проведенное исследование способствовало раскрытию потенциала культур различных этноконфессиональных групп Татарстана для сохранения ценности семьи. Это особенно актуально на фоне процессов, происходящих сегодня в изучаемой сфере в контексте глобализации. Одновременно выявленные общие черты в нормах и повседневной жизни относящих себя к татарам и русским в конкретном регионе России могут стать основой для дальнейшего развития их взаимопонимания и сотрудничества. Использованный при этом метод глубинных интервью в семьях показал свою продуктивность для выяснения содержания семейных ценностей и практик. Тем самым статья может внести определенный вклад в развитие методики их изучения в русле социологии семьи и культурной антропологии.
Список литературы Семейные ценности и практики в дискурсе татар и русских Татарстана
- Минушкина, К. Э. Социальные проблемы российских семей в современных социально-экономических условиях / К. Э. Минушкина, Е. А. Понкратова // Молодой ученый - 2018. - № 34 (220). - С. 73-74. - Н^: https://moluch.ru/archive/220/52402/ (дата обращения: 06.07.2020).
- Дадаева, Т. М. Конфликты в молодых городских семьях / Т. М. Дадаева // Ре-гионология. - 2015. - № 4. - С. 148-157. - URL: https://regionsar.ru/ru/node/1432 (дата обращения: 07.09.2020). - Рез. англ.
- Бороздина, Е. А. Как распорядиться «материнским капиталом», или граждане в семейной политике / Е. А. Бороздина, Е. А. Здравомыслова, А. А. Темкина // Социологические исследования. - 2012. - № 7. - С. 106-118. - URL: https://www.isras.ru/files/ File/Socis/2012_7/Borozdina.pdf (дата обращения: 20.12.2020).
- Чернова, Ж. В. Незавершенная гендерная революция / Ж. В. Чернова. - DOI 10.14515/пюпйошщ.2019.2.10 // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. - 2019. - № 2 (150). - С. 222-242. - Ц^: https://monitoringjoumal. ru/index.php/momtoring/artide/view/669 (дата обращения: 07.09.2020). - Рез. англ.
- Носкова, А. В. Меняющиеся семейные отношения - гендер и поколения (о VIII конгрессе европейского общества изучения семейных отношений) / А. В. Носкова // Социологические исследования. - 2017. - № 2 (394). - С. 158-160. - URL: http://socis. isras.ru/files/File/2017/2017_2/Noskova.pdf (дата обращения: 20.07.2020).
- Екеева, Э. С. Традиции трудового воспитания в алтайской семье / Э. С. Екеева // Studia Culturae. - 2013. - № 18. - С. 268-278. - URL: http://iculture.spb.ru/index.php/ stucult/article/view/644 (дата обращения: 21.01.2021). - Рез. англ.
- Беляева, Н. Ф. Мокшанская сельская семья в контексте современных модерниза-ционных процессов / Н. Ф. Беляева. - DOI 10.15507/2076-2577.010.2018.01.075-088 // Финно-угорский мир. - 2018. - Т. 10, № 1. - С. 75-87. - URL: http://csfu.mrsu.ru/ru/ archives/2253 (дата обращения: 21.01.2021). - Рез. англ.
- Merzlyakova, S. V. Sociocultural Determinants of Modern Youth's Family Self-Determination / S. V. Merzlyakova. - DOI 10.12731/2218-7405-2016-11-123-135. - Текст : электронный // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). - 2016. - № 11-1. - С. 123-135. - URL: http://journal-s.org/index.php/sisp/ article/view/9642 (дата обращения: 21.01.2021).
- Галиева, Г. И. Современная исламская семья в России (на примере Татарстана) / Г. И. Галиева // Россия и мусульманский мир. - 2009. - № 3. - С. 47-57. - URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-islamskaya-semya-v-rossii-na-primere-tatarstana (дата обращения: 02.02.2021).
- Ярлыкапов, А. А. «Народный ислам» и мусульманская молодежь Центрального и Северо-западного Кавказа / А. А. Ярлыкапов // Этнографическое обозрение. -2006. - № 2. - С. 59-74. - URL: https://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2006/no2/2006_2_ Yarlykapov.pdf (дата обращения: 02.02.2021).
- Ильдарханова, Ч. И. Этнокультурная идентичность семьи в гетерогенном сельском пространстве Республики Татарстан: локальное измерение / Ч. И. Ильдарханова // Дискуссия. - 2015. - № 4 (56). - С. 70-74. - URL: https://www.journal-discussion.ru/vypuski-zhurnala/vypusk-nomer-56-aprel-2015/statya-1581 (дата обращения: 20.07.2020). - Рез. англ.
- Табакаев, Ю. В. Семья как институт этнической идентификации в Республике Алтай: история и современность / Ю. В. Табакаев, Е. В. Благовская // Общество: социология, психология, педагогика. - 2015. - № 1. - С. 8-12. - URL: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_ zhurnala/spp/2015-1/tabakayev-blagovskaya.pdf (дата обращения: 03.10.2020). - Рез. англ.
- Ikhwan, A. The Role of the Family in Internalizing Islamic Values / A. Ikhwan, O. F. Biantoro, A. Rohmad. - DOI 10.21093/di.v19i2.1746 // Dinamika Ilmu. - 2019. -Vol. 19, no. 2. - Pp. 323-335. - URL: https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/dina-mika_ilmu/article/view/1746 (дата обращения: 20.07.2020).
- Morgan, D. Rethinking Family Practices / D. Morgan. - DOI 10.1057/ 9780230304680. - Basingstoke, London : Palgrave Macmillan, 2011. - URL: https://link. springer.com/book/10.1057/9780230304680#toc (дата обращения: 09.07.2020).
- Nordqvist, P. Genetic Thinking and Everyday Living: On Family Practices and Family Imaginaries / P. Nordqvist. - DOI 10.1177/0038026117711645 // The Sociological Review. - 2017. - Vol. 65, issue 4. - Pp. 865-881. - URL: https://journals.sagepub.com/doi/ full/10.1177/0038026117711645 (дата обращения: 08.07.2020).
- Городилина, М. В. Время как интегрирующий фактор семьи в зарубежных исследованиях / М. В. Городилина. - DOI 10.17759/sps.2017080101 // Социальная психология и общество. - 2017. - Т. 8, № 1. - С. 5-16. - URL: https://psyjournals.ru/ files/85250/spio_n1_2017_gorodilina.pdf (дата обращения: 29.01.2021).
- Zilinskiene, L. Changing Family Values Across the Generations in Twentieth-Century Lithuania / L. Zilinskiene, M. Ilic - DOI 10.1080/21582041.2018.1516297 // Contemporary Social Science. - 2018. - Vol. 15, issue 3. - Pp. 316-329. - URL: https://www. tandfonline.com/doi/full/10.1080/21582041.2018.1516297 (дата обращения: 29.01.2021).
- Hu, Y. Family and Gender Values in China: Generational, Geographic, and Gender Differences / Y. Hu, J. Scott. - DOI 10.1177/0192513X14528710 // Journal of Family Issues. - 2016. - Vol 37, issue 9. - Pp. 1267-1293. - URL: https://joumals.sagepub.com/doi/ abs/10.1177/0192513x14528710#journals.sagepu (дата обращения: 12.07.2020).
- Panasenko, N. Czech and Slovak Family Patterns and Family Values in Historical, Social and Cultural Context / N. Panasenko. - DOI 10.3138/jcfs.44.1.79 // Journal of Comparative Family Studies. - 2013. - Vol. 44, no. 1. - Pp. 79-98. - URL: https://utpjournals. press/doi/10.3138/jcfs.44.1.79 (дата обращения: 12.07.2020).
- Павлова, О. С. Социокультурные особенности современной чеченской семьи: взгляд изнутри / О. С. Павлова // Платон. - 2013. - № 4. - С. 42-46. - URL: https://www. elibrary.ru/item.asp?id=36983113 (дата обращения: 29.01.2021).
- Азисова, Н. Н. Семейные традиции и ценности татар Мордовии / Н. Н. Азизо-ва // Регионология. - 2013. - № 4. - С. 241-252. - URL: https://regionsar.ru/ru/node/1205 (дата обращения: 20.07.2020). - Рез. англ.
- Звездина, Г. П. Ценности семьи как фактор этноконфессиональной безопасности / Г. П. Звездина, К. В. Исмаилов. - DOI 10.21702/rpj.2014.4.2 // Российский психологический журнал. - 2014. - № 11 (4). - С. 27-37. - URL: https://rpj.ru.com/index.php/ rpj/article/view/465 (дата обращения: 20.07.2020). - Рез. англ.
- Кузнецов, И. М. Ценностные маркеры культурно-исторической идентичности россиян / И. М. Кузнецов. - DOI 10.19181/vis.2017.22.3.466 // Вестник Института социологии. - 2017. - № 22. - С. 12-31. - URL: https://www.vestnik-isras.ru/article/466 (дата обращения: 20.07.2020). - Рез. англ.