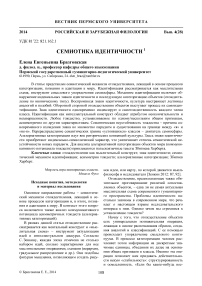Семиотика идентичности
Автор: Бразговская Елена Евгеньевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 (28), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен семиотический механизм отождествления, лежащий в основе процессов категоризации, познания и адаптации к миру. Идентификация рассматривается как мыслительная схема, инструмент смыслового упорядочения семиосферы. Механизм идентификации включает обнаружение индексальных знаков идентичности и последующую категоризацию объектов (отождествление по иконическому типу). Воспроизводя знаки идентичности, культура выстраивает лестницы аналогий и подобий. Оборотной стороной отождествления объектов выступает процесс их самоидентификации. Знак идентичности одновременно индексирует и самотождественность каждого члена класса. Идентификация как интеллектуальный конструкт обладает атрибутом неокончательности и незавершенности. Любое тождество, устанавливаемое по одному/нескольким общим признакам, асимметрично по другим характеристикам. Семантическая неустойчивость тождества - причина одновременного вхождения знака во множество парадигм и существования на границе между «я» и «не-я». Перераспределение семантических границ «устоявшихся» классов - двигатель семиосферы. Альтернативные категоризации идут вне риторических конвенций культуры. Здесь знаки идентичности приобретают индексально-символический характер, что увеличивает степень семантической неустойчивости новых парадигм. Для анализа альтернативной категоризации объектов мира (коммуникативного потенциала тождеств) привлекаются польскоязычные тексты Збигнева Херберта.
Отождествление как мыслительный конструкт, знак идентичности, семиотический механизм идентификации, асимметрия тождеств, альтернативные категоризации, збигнев херберт
Короткий адрес: https://sciup.org/14729331
IDR: 14729331 | УДК: 81'22:
Текст научной статьи Семиотика идентичности
Херберт.
Мир есть игра повторяемых сходств.
Мишель Фуко
Исходные понятия, методология и материал исследования
Основное направление работы – семиотический механизм отождествления, лежащий в основе процессов категоризации и, в итоге, познания и адаптации к миру. В контекст этого вопроса включается также анализ коммуникативного потенциала асимметричных тождеств (альтернативных категоризаций).
В рамках данной статьи отождествление рассматривается как ментальный конструкт и «мыслительная схема» – инструмент актуализации идей в интеллектуальном дискурсе. Согласно С. Зенкину, каждая эпоха отмечена не столько набором идей, сколько характерными для нее мыслительными операциями, схемами (иерархия, градуальное распределение и др.). Они подобны фигурам мышления, позволяющим создать рису- нок идеи, или карту, по которой движется мысль философа и исследователя [Зенкин 2012: 87, 92].
Отождествление, предполагающее также обязательное проговаривание различий сопоставляемых объектов, – едва ли не самая актуальная мыслительная схема современного гуманитарного пространства. Проблемы идентичности настолько значимы в современном мире, что речь идет о настоящем взрыве исследовательского интереса к ним. Однако зачем мы стремимся к установлению тождеств?
Начну с того, что отождествление объектов есть универсальная познавательная операция, лежащая в основе распознавания образов, создания аналогий и классификаций. С ее помощью происходит упорядочение смыслового континуума. В процессе категоризации человек расчленяет поток информации на дискретные значимые единицы, объединяя их далее на основании общих признаков в классы. Именно эта операция позволяет нам придавать действительности некую «стабильность»: структурированность и осмысленность. «Если бы какое-нибудь вос- приятие оказалось не включенным в систему категорий, то есть свободным от отнесения к какой-либо категории, оно было бы обречено оставаться недоступной жемчужиной, жар-птицей, погребенной в безмолвии индивидуального опыта» [Брунер 1977: 14–15]. В операции отождествления себя с другими объектами система адаптируется к миру (пространству других систем). Категорией сходств (аналогий) предопределяется толкование текстов. Представляя отсутствующее через присутствующее, эта категория организует для нас «синтаксис мира», поскольку «искать смысл – значит выявлять то, что сходствует», поскольку и сам «мир есть игра повторяемых сходств» [Фуко 1994: 55, 66]. Не случайно, что метафорой интеллектуальной истории выбрана лестница аналогий, подобий и соответствий.
В изучении проблемы отождествления-идентификации выделяется ряд аспектов. Прежде всего, это определение оснований, по которым устанавливается принадлежность человека к определенной общности: языковой, культурной, социальной. Сегодня идентичность – это ось, вокруг которой вращаются дискуссии в пространстве гуманитарных исследований, или лупа, взгляд через которую позволяет понять важнейшие процессы современности. Становление культуры анализируется в понятиях личностных или категориальных тождеств-различий: художественная идентичность, стилистическая само-тождественность, право на собственную идентичность в рамках языка и социума [Бауман 2002; Мелехина 2011; Теоретическая культурология 2005; Identity 2010; Kumar 2003].
Осуществляя рефлексию над проблемой тождества, я буду исходить из того, что установление тождественности двух или нескольких объектов есть результат процесса их идентификации. Таким образом, понятия идентичность и тождественность употребляются как синонимические.
Процесс идентификации рассматривается в контексте общесемиотической теории и семиотики культуры. В качестве инструментальных моделей используются триадическая модель знака Ч. Пирса, бинарные структуры, асимметрия соположений тождеств-различий в семиозисе, «семантическая петля» и др.
Семиотический механизм идентификации (и ее оборотной стороны – самоидентификации) будет показан на материале двух польскоязыч-ных стихотворных текстов Збигнева Херберта. В первом человек, устанавливая тождественность с камнем, использует неконвенциональный (для культуры) знак идентичности: изменчивость. Во втором тексте реконструируется процедура са-моотождествления, которую камень осуществля- ет по отношению к своему внутреннему «я» («каменности»). Кроме стихотворных текстов Збигнева Херберта и Чеслава Милоша, в статье будут цитироваться также эссе Х.Л. Борхеса «Пьер Менар, автор “Дон Кихота”», романы «Смерть в Византии» Юлии Кристевой и «Остров накануне» Умберто Эко, в которых вопросы идентичности и самотождественности выдвигаются непосредственно в «поверхностную структуру». Широкий иллюстративный материал, помимо своих прямых функций, используется для актуализации знаковой черты современного гуманитарного пространства: визуализации научных теорий в художественном дискурсе.
Семиотический механизм идентификации
Представлю основные семиотические аксиомы, сущностные для любого акта идентификации.
Отождествление (категоризация) – это семиотическая практика, основанная на обнаружении знаков идентичности , которыми актуализируется общий признак / признаки объектов внутри класса. Таким образом, семиотика видит отождествление сквозь призму иконического подобия.
Отождествление связано с необходимостью определить черту, разделяющую сходное и различное, свое и чужое. Так, без осознания того, где именно «я» может перейти в «не-я», невозможен акт идентификации. В частности, региональная идентификация состоит в осознании принадлежности к определенной территориально-административной общности [Теоретическая культурология 2005: 271]. Однако «понятие границы двусмысленно. С одной стороны, она разъединяет, с другой – соединяет. Она всегда граница с чем-то и, следовательно, принадлежит обеим пограничным культурам <…>» [Лотман 2010: 262]. Отождествление всегда происходит в ситуации пограничья, когда знаки «иного» “смотрят в глаза” знакам идентичности.
На первый взгляд кажется, что отождествление – это не одна, а две разновекторные операции: а) идентификация субъекта или объекта с другими субъектами / объектами; б) самоидентификация. Для осуществления первой необходима референция к другому объекту (внешняя), для осуществления второй – автореференция (внутренняя). Однако в обоих случаях отождествление всегда требует участия «другого»: того, кто, внеположен субъекту идентификации и занимает иную, нежели он, точку в пространствен-но-временнóм континууме. Этому требованию удовлетворяют как внешний объект отождествления, так и внутреннее «я».
Таким образом, процессы идентификации и самоидентификации – это реализации одной и той же модели отождествления. Оба процесса основаны на отображении внешнего референта (объекта отождествления) и выделении знаков идентичности. Однако в операции идентификации акцент в большей степени ставится на «отделение» свойств от вещей (актуализацию знаков идентичности) и последующую категоризацию вещи. Для самоидентификации же важнее определение пространственно-временных «границ» субъекта. Обе эти операции стали предметом художественного «анализа» в стихотворных текстах польского поэта Збигнева Херберта (1924– 1998): «Poczucie tożsamości» («Ощущение идентичности») и «Kamyk» («Камешек») [Herbert 2010: 118, 144].
Херберт: идентификация с камнем
Процесс идентификации двух и более объектов основан на анализе их атрибутов. Система знаков, замещающих все сущностные свойства (включая и те, которыми вещи различаются), составит экстенсионал тождества. Знаки, за которыми стоят только общие атрибуты, – интенсио-нал тождества, индекс идентичности. Такую когнитивную операцию можно осуществлять и по отношению к объектам, которые, с точки зрения обыденного сознания, сначала кажутся заведомо неотождествляемыми. У Херберта это человек и камень. Текст «Ощущение идентичности» включен в цикл «Pan Cogito» («Пан Когито»), где самим названием актуализирована ментальная природа идентификации. Вещи не могут и не хотят видеть своей тождественности. Обнаружить сходство в несходном, увидеть множество альтернативных, не предусмотренных научными классификациями порядков, способен лишь человеческий интеллект. Херберт пишет:
Jeśli miał poczucie tożsamości to chyba z kamieniem jeśli miał poczucie głębokiego związku to właśnie z kamieniem
Если у него было ощущение идентичности, то, наверное, с камнем.
Если у него было ощущение глубокой связи, то именно с камнем2.
На каких основаниях возможна столь парадоксальная когнитивная операция, которую Фома Аквинский обозначил как аdaequatio rei et intellec-tus – отождествление вещи и интеллекта? Знаком идентичности, или соответствия (conformitas), между камнем и человеком, по Херберту, становится их изменяемость. Для культуры же традиционно сопоставлять человека с камнем по признаку с совершенно противоположной семанти- кой: неподвижность, неизменность. Такое отождествление возможно как с положительной коннотацией (тверд в убеждениях), так и с отрицательной (твердокаменный, окаменевшая душа). Но почему Херберт настаивает: «nie była to idea niezmienności» (речь совсем не о неизменности)?
Для поэта более чем значимо, что «истинная» идентификация возможна через отображение тех общих свойств, которые составляют невидимую глазу сущность обеих вещей. Херберт объясняет: я, познающий субъект, тождественен камню, родственен ему. Наш общий знак – изменчивость. На этой стадии рассуждений знак идентичности исключительно индексален , а смысл его недоказателен. «Истинность» любого отождествления, даже альтернативного, проявляется в ходе иконической визуализации. Под взглядом поэта вещь «открывается», обнаруживая свою многогранность. Только благодаря этому можно выбрать общий атрибут, не предусмотренный конвенциями языка и культуры.
<…> kamień był różny leniwy w blasku słońca brał światło jak księżyc gdy zbliżała się burza ciemniał sino jak chmura potem pił deszcz łapczywie i te zapasy z wodą <…>
<…> камень был разный: ленивый в блеске солнца, вбирал свет, подобно луне, в приближении бури темнел синевой, как туча, потом он пил дождь, жадно заглатывая, но одновременно борясь с водой.
Изменчивость камня не слишком на виду, ведь по природе он интроверт. Изменчивость – его внутреннее имплицитное свойство, которое ускользает от глаза в однократном восприятии. В моменте «здесь-сейчас» камень неподвижен, он сопротивляется освоению пространства и при отсутствии внешних воздействий не меняет своих координат. Но тем значимее способность камня адаптироваться к свету, ветру, воде, времени, хотя она и обнаруживается лишь в серии наблюдений за множественными фрагментами его существования. Какой же из атрибутов камня истинно описывает его сущность? Оба. Но неизменность камня эксплицитна для минуты «сейчас», тогда как изменчивость включает его в бесконечную категорию всего живого.
Разве не то же для человека? Истинное отображение связано с репрезентацией его имплицитных свойств. Как и в случае с камнем, важно не внешнее. Значимо внутреннее, раскрытие которого невозможно в рамках привычного восприятия. Подобно камню, человек адаптируется к миру, меняет цвет настроения, стиль мышле- ния, превозмогает давление стихий. Подобно «не слишком сыпучему песчанику», он смотрит на мир «тысячью глаз» – воспринимает мир всеми органами чувств, говорит с ним на вербальных и невербальных языках культуры.
Жизнь камня, подобно человеческой жизни, – серии различных переходов, в которых каждое состояние «сейчас» уничтожится следующим, а далее и оно также будет замещено и уйдет в небытие. В итоге, жизнь – это внешне не наблюдаемое «пьяное равновесие» между уходящим и наступающим мгновениями, равновесие как прообраз «Ничто»:
słodkie unicestwienie zmaganie żywiołów spięcia elementów zatracenie natury własnej pijana stateczność <…> Сладостное уничтожение сущего, столкновение стихий, замыкание элементов,
Утрата своей природы, самотождественности, пьяное равновесие неподвижности <…>.
Альтернативные категоризации осуществляются вне «знакомых речевых приемов, потерявших остроту от частого употребления», вне любого рода конвенций культуры (идеологических, эстетических, символических). Лишь выходя за границы предписанного, «мы вдруг обнаруживаем, что существование может быть гораздо более насыщенным, интересным и правдивым, нежели то рассеянное состояние, в котором закостенел наш дух» [Кальвино]. Только освобождаясь от врожденной предопределенности социальных ролей, человек обретает истинную индивидуальность [Бауман 2005: 181].
Херберт: самотождественность камня
Знак идентификации, как и любой знак, «должен одновременно и внедряться в означаемое, и отличаться от него» [Фуко 1994: 95]. Это значит, что не только представлять класс в целом, но и замещать представление о каждом из его членов. От идентификации с другой вещью один шаг до самоидентификации. Отождествляя себя с камнем, человек вынужден одновременно производить «ревизию» не только атрибутов камня, но и своего «я». Но тогда и второй член тождества (в нашем случае – камень) также должен обратиться к самопознанию. Гипотетически этот процесс может быть воссоздан. «Живут ли и думают вещи? <…> Верно ли, что камень чувствует свою каменность?» [Эко 1999: 446, 450]. Увидеть камень глазами самого камня – вот сюжет текста Херберта «Kamyk» («Камешек»).
Попытка представить и высказать то, что вещь сама могла бы поведать о себе (а ведь это еще и попытка сделать межсемиотический перевод с языка вещей на вербальный язык), не единична в литературе. Процессу автореференции камня посвящена, например, глава «Парадоксальные упраждения на тему: как мыслят камни» из романа «Остров накануне» Умберто Эко:
«<…> он решился почувствовать, что значит мыслить каменностью камня <…>. Что бы я чувствовал, будь я действительно камнем? Прежде всего – движение тех атомов, из которых составлен, то есть постоянную вибрацию в соположениях, которые частицы моих частиц образуют между собой. Я слышал бы гул своей каменности» [Эко 1999: 450].
В сборник «На стороне вещей» французского философа, поэта и эссеиста Франсиса Понжа [Понж 2000] включены философские упражнения на тему, что есть вода, свеча, пчела, шкаф, песчаник и др. Отсюда и смысл заглавия: «На стороне вещей». Или название сборника, в который Херберт включает «штудию» о камне: «Studium przedmiotu» («Научное исследование вещи»). В голландском натюрморте XVII в. также происходил поворот от категоризации вещей «к самим вещам». Вещь уже не изображалась как представитель класса идентичных предметов. Теперь ее репрезентация стремилась к полному иконическому замещению вещи как индивидуального объекта [Неретина, Огурцов 2010: 344].
У Херберта исследование самоидентификации камня и границ его индивидуальной сущности осуществляется как индексальая актуализация атрибутов вещи. «Самость» камня ограничена свойствами, отличающими его от всего того, что уже не он, не камень. Он до краев наполнен каменностью ( wypełniony dokładnie kamiennym sensem ), его запах – вне привычных ассоциаций, вне того, что может отталкивать или притягивать:
<…> niczego nie przypomina niczego nie płoszczy nie budzi pożądania.
И одновременно индексальное указание свойств – лишь отправная точка процессов символизации . С помощью органов чувств человек воспринимает только «внешние» атрибуты камня. В акте коммуникации с ним (восприятия) эти характеристики наделяются функцией «быть знаконосителем»: свидетельствовать о том, что составляет внутреннюю сущность камня и может быть явлено только символически. Так, холодность камня – символический знак его достоинства, гладкое тело – свидетельство благородства. К тому, кто держит камень в руке, приходит ясное осознание: тепло и шероховатость руки диссонируют с его благородной сдержанностью.
Совершенство и гармония камня есть результат его глубокой внутренней работы по осознаванию своей идентичности:
kamyk jest stworzeniem doskonałym równy samemu sobie pilnujący swych granic камешек есть творение совершенное тождественный самому себе стерегущий свои границы.
Камни позволяют познавать себя, однако не дают себя приручить. Их взгляд всегда спокоен, ясен, не замутнен:
Kamyki nie dają się oswoić do końca będą na nas patrzeć okiem spokojnym bardzo jasnym.
Камень смотрит на поэта, поэт – на камень. И в этой точке успешность их самоидентификации (камень мыслит свою каменность, поэт – свою сущность) будет неизбежно определяться успешностью отождествления с «другим» (человек как камень, камень как человек).
Незавершенность идентификации
Идентификация позволяет субъекту обнаружить и зафиксировать свое место в семиозисе (культуре, социуме). Быть частью некоторой парадигмы – значит обладать общими для всех ее членов признаками. При вхождении в класс субъект, выделяя эти инвариантные атрибуты, одновременно производит операцию «собирания себя» (М. Мамардашвили) – самоотождествле-ния в различных точках времени-пространства. Таким образом, внешняя референция не выполнима без внутренней, или самореференции. Общий признак для всех членов класса (включая парадигму различных вариантов «я») – не только знак тождества , но и знак самотождественно-сти . Его воспроизводимость в культуре, с одной стороны, обеспечивает трансляцию идеи идентичности, а с другой – выступает гарантом целостности границ класса / субъекта.
В этом контексте может возникнуть неверное предположение о том, что операции отождествления-идентификации закрывают двери перед лицом новых смыслов культуры. На самом деле мы всегда сталкиваемся с эффектом «незавершенности идентичности» [Бауман 2005: 181] и необходимостью преодолевать любую «закостеневшую идентичность» [Смирнов 2006: 14]. Почему же идентификация всегда неокончательна?
С онтологической точки зрения, два объекта не могут быть полностью (по всем атрибутам) идентичны друг другу, поскольку иначе им бы пришлось существовать в одной и той же точке времени-пространства. Отождествляемые знаки, при полном совпадении, должны были бы замещать один и тот же референт, т. е. слиться в один знак. Ситуация полной идентичности, выражаемая формулой А(х)=В(х) , где А тождественно В на основании обладания атрибутом х , стала бы семантически бедной : здесь, теряя самотождест-венность, В превращается в А . Самореферентные замкнутые процессы – не что иное, как «семантические петли» (Д. Хофштадтер) 3.
Вот какой выход из петли абсолютного тождества видит Х.Л. Борхес. В эссе «Пьер Менар, автор “Дон Кихота”» он демонстрирует парадоксальное смысловое несовпадение двух, казалось бы, идентичных текстов: «Дон Кихота» М. Сервантеса и «того же самого» романа, но написанного уже в ХХ в. Пьером Менаром:
«Его дерзновенный замысел состоял в том, чтобы создать несколько страниц, которые бы совпадали – слово в слово и сторока в строку – с написанным Мигелем де Сервантесом. <…> воспроизвести буквально его спонтанно созданный роман <…>» [Борхес 1994: 290, 292].
Борхес отмечает: возможность написать тот же роман заново, естественно, в другой точке интеллектуальной истории, предполагала необходимость полного отождествления Менара с Сервантесом. Он должен был «стать Сервантесом» и «жить» в его время и, кажется, сделал это, приложив все усилия к реконструкции дискурса своего предшественника. Однако история запрещает «застывание и остановку текста: чистое повторение старого и современного текста, одного в другом [Делез 1998: 12]. И Борхес, видя совершенно одинаковые фрагменты из Сервантеса и Менара («истина – мать которой история, соперница времени <…>»), замечает: «тексты Сервантеса и Менара в словесном плане идентичны, однако второй бесконечно более богат по содержанию». Во времена Сервантеса «Дон Кихот» был развлекательной книгой, а ныне тот же самый текст – «предлог для высокомерия грамматиков, для неприлично роскошных изданий» [Борхес 1994: 293, 294].
Идентификация – это многомерный конструкт, производимый интеллектом. Поэт (внешний наблюдатель) реконструирует процесс, в котором камень собирает воедино образы своего «я». Границы каменности очерчены знаками личной идентичности объекта. Индексируя стабильную неизменность «внешних» свойств кам- ня (холодность, гладкость, совершенство формы), человек в то же время символизирует присутствие ненаблюдаемого: за холодностью камня прячется достоинство, за идеально гладкой поверхностью – внутренняя гармония и соразмерность. И это еще не завершение процесса «артикуляции своей территории» [Sörlin 1999].
Семиозис «заставляет» знак вступать в серии отождествлений с различными объектами, быть членом множества парадигм. И в этом причина, почему знак личной идентичности не может не функционировать одновременно и как знак над-персональности. При внешней неподвижности и поэт, и камень обладают свойством изменяемости . Оба вбирают в себя цвет и свет, тепло и холод. У обоих ощущение растворенности в мире тождественно умиранию своей индивидуальности ( słodkie unicestwienie ). Но тогда жизнь субъекта состоит в балансировании на границе между собственно «я» и тем «я», которое существует как часть «другого».
Именно выявляемая в акте отождествления асимметрия (семантическая неустойчивость тождества) заставляет знак начинать поиск других вариантов идентификации. Покажу это на примере из Чеслава Милоша. Любая физическая вещь – это серия событий-состояний, асимметричных друг другу. Отсюда проистекает сомнение поэта в тождественности желудя и дуба:
Czy tym samym jest żołądź i dąb oszroniały?
Czy tym samym jest paproć i węgiel kamienny?
<...>
Czemuż więc zapytujesz mnie o wiersze dawne
I minionych dziewczyn cudaczne imiona?
[Miłosz 1988: 102].
Разве желудь и дуб поседевший одно и то же?
Разве папоротник и каменный уголь одно и то же?
Так зачем же ты спрашиваешь меня о старых стихах И именах моих прежних девушек?
Возможность всех операций идентификации обеспечивается опорой на инвариантный атрибут всех членов класса. Однако в разных точках времени субъект не сводится только к инварианту: он всегда «больше» него. И это «больше» – потенциальный знак идентичности для следующих серий отождествлений.
В любую «мыслительную схему» заложен механизм производства следующей идеи [Зенкин 2012: 92]. Так, на месте предполагаемого абсолютного иконизма А(х)=В(х) возникает семантическая асимметрия, неустойчивость внутри класса, когда иные атрибуты А и В (не х) становятся знаками их не-идентичности. С точки зрения концепции автопоэзиса только семантически неустойчивые структуры обеспечивают смысловое движение мира. И потому живая система занята беспрерывным воспроизводством границ – своих собственных и мира [Тарасенко 2009: 70]. Она обнаруживает тождество с одним классом и сразу же, нарушая его замкнутую целостность, одновременно видит себя членом других парадигм. Становление культуры происходит через перераспределение семантических границ. Семи-осфера живет в сериях актуализаций семантически неустойчивых «тождеств», среди которых: иконический знак и его референт, язык и мир, фонетическая идентичность в омонимии, метафора и сравнение, оригинал и перевод и др.
В эпоху глобализации и гипертекстовости мышления процесс идентификации как выделения и «удержания» границ становится очень проблематичным [Neimark, Tinker 1987]. И это причина так называемого «кризиса идентичности». Идентифицируя себя с каким-либо классом, субъект может настолько активно ассимилироваться с ним, что перейдет границу между «я» и «не-я», т. е. не сможет однозначно определить, чем он, как представитель класса, отличается от других членов этой же группы. Об этом у Ю. Кристевой:
«Потерять свое „Я“ – обычно я не признаю это претенциозное выражение, но в ту минуту речь шла именно об этом: я не ощущала границ собственного «Я», слившегося с другими, вся обратившись в трепетную, вибрирующую, настроенную на общее частицу <…> как будто, теряя себя и растворяясь в чем-то ином, можно вибрировать!» [Кристева 2007].
Или:
«Я не принадлежу никакому пространству. <…> Мое блуждание по миру слов и идей – туда-сюда, в стороны, прямо – не заключено в некоем строго фиксированном пространстве и уж точно не в том, в котором все еще находят приют некоторые из моих современников: пространстве родного языка. <…> бродяга, утративший собственную аутентичность, ищущий непонятную истину <…>» [там же].
Вот почему «насущной задачей культуры сейчас является поиск форм, которые позволяют сформировать и защитить внутреннее пространство людей», которое постоянно подвергается давлению извне [Теоретическая культурология 2005: 271].
Каков же итог семиотических рассуждений об идентичности? Всегда неокончательная идентичность – это «мнемоническая и риторическая фигура нашей современности»; она лишена привязки к определенной точке пространства и может наполняться «различным субстанциальным содержанием» [Зенкин 2012: 87, 95]. В определенном смысле идентичность есть симулякр. Или идентичность – это просто «слово, которое все еще ищет свое значение, быть может, это идея, а может быть, мираж или миг истории» [Пас]. И потому верно:
«Не ищите меня на карте, моя Византия – понятие временное, это вопрос, который время задает самому себе, когда не желает выбирать между двумя географическими точками, двумя догмами, двумя кризисами, двумя идентичностями, двумя континентами, двумя религиями, двумя полами, двумя уловками» [Кристева 2007].
Примечания
-
1 Работа выполнена при поддержке гранта 058 П в рамках Программы стратегического развития ПГГПУ.
-
2 Здесь и далее переводы принадлежат автору статьи. Для удобства чтения в рамках научного дискурса не везде сохраняется «синтаксическая энтропия» оригинала – пунктуация Збигнева Херберта (т. е. интенция ее отсутствия, нулевой знак). Если цитата полностью проясняется и интерпретируется в предшествующем ей фрагменте текста, то перевод как таковой не приводится.
-
3 Концепция «семантических петель» рассматривается в монографическом исследовании Дагласа Хофштадтера «Гедель. Эшер. Бах: эта бесконечная гирлянда» (Самара: Бахрах-М, 2001. 752 с.).
Professor in the Department of General Linguistics
Perm State Humanitarian-Pedagogical University
The article explores semiotic mechanism of identification that underlies processes of categorization, cognition and mental adaptation to the outer world. Identification is regarded as a mental construct, a tool for conceptual ordering of semiosphere. Identification mechanism involves spotting indexal signs of identity and subsequent categorization of objects (iconic identification). By reproducing signs of identity, culture arranges hierarchies of analogies and similarities. The opposite side of this process is self-identification of objects. A sign of identity simultaneously labels self-identity of each class member. Identification as a mental construct possesses the attribute of non-completion. Semiosis rules out existence of absolute (iconic) replicas. Any equivalence established on the base of one or more common features appears asymmetric if other features are chosen. This semantic instability of identity is the reason for simultaneous inclusion of a sign in a variety of paradigms and its existence on the boundary between “self” and “non-self”. Rearrangement of semantic boundaries between “conventional” classes is the engine of semiosphere. Alternative categorizations proceed outside rhetorical conventions of culture. Here the signs of identity acquire indexal and symbolical quality, thus enhancing semantic instability of new paradigms. To analyze alternative categorization of objects of the world we used Polish texts of Zbigniew Herbert. In one of the texts a man identifying himself as a rock uses a non-conventional (for culture) sign of identity – variability. The other text presents reconstruction of self-identification procedure performed by a rock in relation to its inner “self” (“rockness”). In the article the novels “ Murder in Byzantium” by J. Kristeva and “ The Island of the Day Before” by U. Eco are cited. Extensive supporting data is not only a tool for visualizing ideas within an academic text, but also an opportunity to demonstrate landmark of the contemporary humanities – actualization of scientific theories in a literary discourse.
Список литературы Семиотика идентичности
- Бауман З. Индивидуализированное общество/пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Логос, 2005. 390 с
- Борхес Х. Л. Пьер Менар, автор «Дон Кихота»//Борхес Х. Л. Сочинения: в 3 т./сост., коммент. и пер. Б. Дубина. Рига: Полярис, 1994. Т. I. С. 287-296
- Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации/пер. с англ. К. И. Бабицкого. М.: Прогресс, 1977. 413 с
- Делез Ж. Различие и повторение/пер. с франц. Н. Б. Маньковской, Э. П. Юровской. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. 384 с
- Зенкин С. Исторические идеи и мыслительные схемы: к поэтике интеллектуального дискурса//Зенкин С. Работы о теории: Статьи. М.: Новое лит. обозрение, 2012. С. 86-96
- Кальвино И. Франсис Понж//URL: http://www.ng.ru/philosophy/2000-07-20/5_ponz.html (дата обращения: 31.08.2014)
- Кристева Ю. Смерть в Византии/пер. Т. Чугуновой. М.: АСТ Хранитель, 2007. 352 с. URL: http://filegiver.com/free-download/kristeva-smert-v-vizantii.fb2 (дата обращения: 1.03.2014)
- Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПБ, 2010. 704 с
- Мелехина М. Б. Семиотика идентичности: экзистенциальный опыт и текстовые экспликации//Семиотика культуры: антропологический поворот. СПб.: Эйдос, 2011. С. 269-280
- Неретина С. С., Огурцов А. П. Реабилитация вещи. СПб.: Изд. дом «Мipъ», 2010. 800 с
- Пас О. В поисках настоящего времени. Нобелевская лекция/пер. В. Г. Резник//URL: http://gigakniga.com (дата обращения: 01.09.2014)
- Понж Ф. На стороне вещей/cост., коммент., послесл. и пер. с франц. Д. Кротовой и Б. Дубина. М.: Гнозис, 2000. 206 с
- Смирнов И. Генезис: философские очерки по социокультурной начинательности. СПб.: Алетейя, 2006. 288 с
- Тарасенко В. Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавания. М.: УРСС; Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 232 с
- Теоретическая культурология. М.: Акад. проект, 2005. 624 с
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук/пер. с франц. В. П. Визгина и Н. С. Автономовой. СПб.: A-cad, 1994. 407 с
- Эко У. Остров накануне/пер. с итал. и предисл. Е. Костюкович. СПб.: Симпозиум, 1999. 496 с
- Herbert Z. Wiersze wybrane. Kraków: Znak, 2010. 320 s
- Identity/eds. G.Walker, E.S.Leedham-Green. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 228 p
- Kumar K. The Making of English National Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 384 p
- Miłosz Cz. Poezje. Warszawa: Czytelnik, 1988. 440 s
- Neimark M., Tinker T. Identity and Non-Identity Thinking. Dialectical Critique of the Transaction Cost Theory of the Modern Corporation//Journal of Management. 1987. Vol. 13, № 4. P. 661-673
- Sörlin S. The articulation of territory: Landscape and the constitution of regional and national identity//Norwegian Journal of Geography. 1999. №53 (2-3). P. 103-112