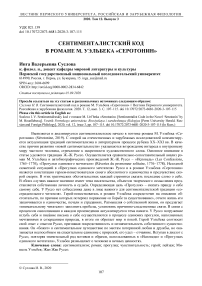Сентименталистский код в романе М. Уэльбека "Серотонин"
Автор: Суслова Инга Валерьевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Выявляется и анализируется сентименталистское начало в поэтике романа М. Уэльбека «Серотонин» (Serotonine, 2019). С опорой на отечественных и зарубежных исследователей комментируется актуализация традиций сентиментализма в литературном процессе рубежа ХХ-XXI вв. В качестве причин развития «новой сентиментальности» указываются возрождение интереса к внутреннему миру частного человека, стремление к искренности художественного слова. Основное внимание в статье уделяется традиции Ж.-Ж. Руссо. Осуществляется сравнительно-сопоставительный анализ роман М. Уэльбека и автобиографических произведений Ж.-Ж. Руссо - «Исповедь» (Les Confessions, 1765-1770), «Прогулки одинокого мечтателя» (Reveries du promeneur solitaire, 1776-1778). Исходной сюжетной ситуацией в «Прогулках одинокого мечтателя» Руссо и в романе Уэльбека «Серотонин» является констатация героем-повествователем своего абсолютного одиночества и предчувствие скорой смерти. В этих трагических обстоятельствах каждый стремится сказать последнее слово о себе. В обоих случаях важное значение имеет тема писательства, объектом творческого осмысления представляется собственная личность и судьба. Определяющая цель «Прогулок» - сказать правду о себе самому себе. У Руссо нет собеседника даже в лице важного для сентименталистской традиции «сострадательного читателя». Герой-повествователь в романе Уэльбека сосредоточен на описании обстоятельств, по причине которых потерпел поражение «в борьбе за существование», отчего жизнь его заканчивается в одиночестве, печали и страданиях. Размышляя о собственной жизни, он предлагает «внимательному читателю» заполнить пробелы, установить причинно-следственные связи. В связи с процессом самоописания в каждом произведении актуализируется тема памяти. У Руссо погружение вглубь себя и писание письма о себе осуществляются в процессе одиноких прогулок, наполненных мечтаниями и созерцанием природы, в итоге он обретает мир и покой. Герой Уэльбека соотносит свой опыт с опытом Руссо, признавая посредственность и незначительность собственного существования. Он «бежит» в сентиментальное путешествие по местам потерянной любви и дружбы, но оказывается неспособным на спасительное единение с природой, его удел - отчаяние. Вступая в диалог c Руссо, повторяя значительный ряд мотивов и образов, использованных в «Исповеди» и «Прогулках одинокого мечтателя», Уэльбек размышляет о человеке и вечных ценностях.
Сентиментализм, роман, прогулка, чувствительность, герой, пейзаж, мишель уэльбек, жан жак руссо
Короткий адрес: https://sciup.org/147229699
IDR: 147229699 | УДК: 821.139 | DOI: 10.17072/2073-6681-2020-3-107-115
Текст научной статьи Сентименталистский код в романе М. Уэльбека "Серотонин"
Актуализация традиций сентиментализма является важной приметой литературного процесса рубежа ХХ–XXI вв. В контексте постмодернистского мировидения исследуются «поэтика ранимости», «поэтика исповедальности», «феномен чувствительности» [Эпштейн 2005; Джумайло 2011; Bercegol 2015]. Современная литература вновь обращается к внутреннему миру «маленького человека», стремится к искренности художественного слова. Новая сентиментальность, по определению Н.Л. Лейдермана и М. Л. Липовец-кого, «по пафосу своему противоположна постмодернистскому скепсису и возвращается к традициям художественной системы романтического типа. <…> В произведениях “нового сентиментализма” актуализируется память культурных архетипов, наполненных высоким смыслом» [Лейдерман, Липовецкий 2001: 85].
Во французском литературоведении интерес к сентиментализму проявляется в контексте теории эмоций, психоанализа, гендерных исследований (см.: [Charles 2011; Bercegol 2015]). Профессор университета Париж-13 А. Кудрез, комментируя проблемы интерпретации литературного наследия Просвещения в романах конца ХХ– начала XXI в., подчеркивает «близость между представлениями о просветительской эпохе и взглядами людей конца ХХ – начала XXI столетия на свое собственное существование. Литература и история XVIII в., осмысленные как эпоха “либертинажа” и “письма о себе”, отсылают не столько к “правде” или “реальности” века Философов, сколько к характерным чертам сегодняшнего дня. Современная эпоха находит в этой эпохе поддержку легитимности гедонизма, индивидуализма и нарциссизма, но они сегодня – карикатура тех ценностей, которые были в Просвещении» [цит. по: Пахсарьян 2017: 205].
Цель нашего исследования состоит в выявлении сентименталистского начала в поэтике романа М. Уэльбека «Серотонин» (Sérotonine, 2019) в контексте традиции Ж.-Ж. Руссо. Мы полагаем, что отсылки к автобиографическим сочинениям Руссо на уровне типа героя, сюжета, хронотопа, жанровой специфики, мировоззренческих и этических установок являются концептуальным ядром романа. Повторяя значительный ряд мотивов и образов, использованных Руссо в «Исповеди» и «Прогулках одинокого мечтателя», посредством диалога Уэльбек размышляет о вечных ценностях и трагедии их утраты в современном мире.
В «уэльбекиане», как правило, комментируется эмоциональный тон произведений, чаще всего ему даются оценки «депрессивный», «меланхоличный», «медитативный» (см.: [David 2011; Bot-tarelli 2016; Kon 2019]). Опыт сопоставления Уэльбека и Руссо представлен в статье Ж. Мезо.
Комментируя проблему соотношения автора и рассказчика в автобиографическом произведении, исследователь соотносит стратегии само-презентации («de posture d’autere») Руссо и Уэльбека. Руссо в своей авторской «позе» стремится к простоте и естественности, Уэльбек играет, провоцирует общественное сознание [Meizoz 2011].
Ключевым свойством сентиментализма, по определению М. М. Бахтина, является «переоценка масштабов», «возвеличение маленького, слабого, близкого» [Бахтин 1997: 304–305]. Сен-тименталистский герой – заурядный, маленький в социально-историческом масштабе, но обладающий при этом «эмоциональным богатством», проявляющий «сочувствие, сострадание, жалость» ко всему живому [там же]. Герой Уэльбека, по мнению критиков, «аккумулирует проблемы среднего европейца», каждый его роман представляет собой «исповедь среднего человека. Среднего, но страдающего. Страдающего, но среднего» [Ермолин 2015]. Писатель размышляет: «Мир – это страдание в действии. В основе мира – ядро страдания <…> Из-за специфики современной эпохи проявления любви практически сведены к нулю. Но идеал любви остается прежним. Пребывая, как всякий идеал, вне времени, он не может не измениться, ни исчезнуть. Отсюда несоответствие между идеалом и реальностью, вопиющий разлад, богатейший источник страдания» [Уэльбек 2016: 9, 12]. Доминирующей темой творчества Уэльбека является любовь, а точнее – трагедия ее отсутствия.
Имя Руссо периодически упоминается на страницах художественных произведений, эссеи-стики, писем Мишеля Уэльбека и прежде всего в связи с автобиографическим/исповедальным письмом – «Исповедь», «Прогулки одинокого мечтателя». Писатель замечает: «Я бы выбрал не Вольтера, а Руссо» [Уэльбек 2011: 24], утверждая тем самым, что иронии, ставке на разум и интеллект предпочитает чувствительность, беспокойное воображение, мечтательность. В эссе «Оставаться живым» (Rester vivant, 1991) Уэльбек дает напутствие молодым поэтам: «Чтите философов, но не подражайте им; ваш путь, увы иной. Он не отделим от невроза. Пути поэзии и невроза пересекаются и чаще всего на последнем этапе сливаются – поэтическая струя почти неминуемо растворяется в кровавом потоке невроза» [Уэльбек 2016: 24]. В письме к Бернару-Анри Леви писатель признается: «Я долго оберегал себя от паранойи и думаю, что лучшим лекарством послужило мне чтение в раннем возрасте книги “Прогулки одинокого мечтателя”. Меня тогда очень напугало безумие, ощутимо нарастающее с каждой страницей, и я поклялся, что постараюсь его избежать. Сегодня приходит- ся склонить голову перед очевидным: я не избежал его полностью <…> если кто-то во Франции и заслуживает оправдания за свою паранойю, то это я. Руссо тоже» [Уэльбек 2011: 44].
«Прогулки одинокого мечтателя» (Rêveries du promeneur solitaire, 1776–1778), по замыслу Руссо, продолжают «Исповедь» (Les Confessions, 1765–1770): «…я возобновляю то суровое и искреннее исследование, которое когда-то назвал исповедью <…> на эти листки можно смотреть, как на придаток к моей «Исповеди», но я уже не даю им этого заглавия, так как чувствую, что мне не придется сказать ничего, что заслуживало бы его» [Руссо 1961: 575]. Они писались последние два года жизни и не были завершены. Интересно, что Уэльбек работает над романом «Серотонин» в том же возрасте, в каком Руссо приступил к созданию «Прогулок», – в 64 года. Руссо пишет «Прогулки» в предчувствии скорой смерти, исходная повествовательная ситуация произведения: «И вот я один на земле, без брата, без ближнего, без друга – без иного собеседника, кроме самого себя» [там же: 571]. Он сетует: «Одинокий и всеми оставленный, я чувствовал приближение зимы, холод первых морозов, и мое иссякающее воображение уже не населяло одиночества существами, созданными мне по сердцу» [там же].
Погружение вглубь себя осуществляется в процессе одиноких прогулок, наполненных мечтаниями и созерцанием природы: «Эти часы одиночества и размышленья – единственные за весь день, когда я бываю вполне самим собой, принадлежу себе безраздельно, без помех» [Руссо 1961: 578]. Как отмечает Н. Т. Пахсарьян,
«сентименталистская жажда искренности вызывает тягу к “естественным”, как бы “нелитературным” формам повествования» [Пахсарьян 2006]. Сюжет и сама форма прогулок абсолютно свободны, непроизвольны. Г. Серт, комментируя жанровую идею, справедливо проводит аналогию с эссе и апеллирует к традиции Монтеня [Sert 2014]. По мнению Ж. Гитар-Морель, жанр прогулки у Руссо – особая «форма синкретизма, которая возникает из взаимодействия между природой и чувствами, а также между ландшафтами и состоянием ума прогуливающегося» [Guitard-Morel 2014: 4]. Созерцательный восторг «дает писателю невероятную экзистенциальную силу, близкую к анагогии» [ibid].
Важное значение в тексте «Прогулок» сохраняет тема писательства, размышлений о создаваемом документе, условиях и принципах его создания: «закреплю на бумаге», «эти листки – собственно, лишь беспорядочный дневник моих мечтаний», «буду передавать все, что думал, – в том виде, как это у меня возникло», «описать обычное состояние своей души», «больше воспоминаний, чем творчества» и т.п. [Руссо 1961: 576–578]. Как отмечает А. Монтадон, «очарование пешего путешествия превращается в очарование путешествия дорогами письма <…> одинокий путник испытывает удовольствие и от написания, и от перечитывания своих сочинений» [Montandon 2000: 73]. В. В. Котелевская подчеркивает «метаповествовательную, поэтологическую природу» «Прогулок» Руссо, востребованную модернистским метароманом [Котелев-ская 2017: 101].
В романе «Серотонин», как и в большинстве произведений Уэльбека, повествование ведется от первого лица, сосредоточено на проблемах внутреннего мира повествователя. Это не столько история жизни, сколько история сердца. Герой Флоран-Клод Лабруст, служащий Министерства сельского хозяйства на договорных началах, «был всегда – жалким рохлей и, дожив до сорока шести лет, так и не научился держать под контролем собственную жизнь» [Уэльбек 2020: 7; далее перевод романа цитируется по этому изданию с указанием страниц в круглых скобках]. Не будучи литератором и вообще творческим человеком, он тоже пишет («j’écris») свою историю, хотя, в отличие от Руссо, не комментирует процесса письма, не упоминает сопутствующих ему атрибутов (ручка, блокнот, листки и пр.). Тема книги («l’objet de ce livre») – «это я, – заявляет Флоран Лабруст, – не поручусь, что это самая увлекательная тема на свете, но уж какая есть» (164). Главное, на чем сосредоточен повествователь, – «удручающее стечение обстоятельств», поражение «в борьбе за существование» («dans la lutte pour la vie»), отчего жизнь его заканчивается в одиночестве, «печали и страданиях» (6).
Герой не дает книге конкретного жанрового определения, но размышляет об «автофикшн» («le terme d’autofiction») – «слово очень метко описывает мою ситуацию, и вообще оно было придумано специально для меня, мое существование стало просто невыносимым, ни одно человеческое существо не в состоянии выжить в таком беспросветном одиночестве, поэтому, видимо, я и пытался создать какую-то альтернативную реальность, вернуться к изначальной временной развилке, в каком-то смысле получить еще немного очков, дополнительных жизней, возможно, они прятались тут все эти годы, поджидая меня между платформами, дополнительные жизни, невидимые под слоем пыли и смазочных материалов» (142). Автофикшн (или «автофикция») – самосочинение, альтернативная автобиографическая реальность. С. Дубровский, автор термина и основоположник жанра, дает такое определение: «вымысел абсолютно достоверных событий и фактов» [цит. по: Левина-Паркер 2010: 14]. Таким образом, самосочинение Флорана Лабруста, как и мечтания Руссо, становится средством защиты и способом существования. Тема будущего в обоих случаях связывается с письмом.
Герой романа в самоописании далек от апологии, апеллирует не к сочувствующему, а к внимательному читателю («le lecteur attentive»), вступая в определенное противоречие с сенти-менталистской традицией, которая всегда ориентировалась на сострадательного читателя. Причем приглашает его к сотрудничеству – читатель может восполнить «пробелы», «лакуны», помочь ответить на вопросы, сделать необходимые выводы: «мне казалось, что я упустил что-то в реальном мире, скатился на обочину истории, и, возможно, это “что-то” и было самым существенным <…> Я разучился вписывать свою жизнь в хронологические рамки, среди расплывчатого небытия уцелели лишь какие-то отдельные картинки, но внимательный читатель обязательно заполнит лакуны» (70, 117). Настойчивым мотивом романа является образ тумана – метафора угасания памяти, аналитических способностей героя.
Руссо не предполагает помощи читателя – он сам осуществляет «дело беспримерное, которое не найдет подражателя» [Руссо 1961: 9]. Его «самосозерцание» неразрывно связано с самопознанием – «изучение самого себя», «изучение своей души». В «Исповеди» он неоднократно отмечает, что, не имея архива, пишет «по памяти», верным проводником которой является «цепь переживаний»: «Я могу пропустить факты, изменить их последовательность, перепутать числа, – но не могу ошибиться ни в том, что я чувствовал, ни в том, как мое чувство заставило меня поступить» [там же: 243]. Таким образом декларируется сентименталистское соотношение чувства и мысли: чем больше Руссо чувствует, тем больше мыслит. Возникающие «пробелы и промежутки» («des lacunes et des vides» [Rousseau 2002: 167]) восполняются «при помощи рассказов, столь же смутных, как и те воспоминания, которые у меня остались об этом времени» [Руссо 1961: 119]. В «Прогулках» по этому поводу появляется важное уточнение: «…jʼen remplissois les lacunes par des détails que jʼimaginois en supplément de ces souvenirs» [Rousseau 2012: 428] («…я заполнял пробелы подробностями, выдуманными в дополнение к этим воспоминаниям» [Руссо 1961: 607]). Но в самих «Прогулках» автор уже не прибегает к помощи воображения. Замечая «слабеющий разум», «неспособность к умственным усилиям», он полностью доверяется чувству.
В романе «Серотонин» прямая отсылка к «Прогулкам одинокого мечтателя» появляется всего один раз – герой-повествователь соотносит свой опыт, указывает отличия: «И вот я один на земле, как писал Руссо, без брата, без ближнего, без друга – без иного собеседника, кроме самого себя. С этим не поспоришь, но в следующем предложении Руссо провозглашает себя “самым общительным и любящим среди людей”<…> Это был совсем не мой случай <…> В отличие от Руссо, я не мог сказать, что “оказался по единодушному согласию изгнанным из их среды” и люди никогда против меня не объединялись; просто так вышло, что ничего не вышло, моя и без того ограниченная связь с миром постепенно выветрилась, и теперь уже ничто не могло прервать мое падение» (250). Флоран Лабруст – «маленький человек», в его самохарактеристике доминируют признания в слабости, трусости, малодушии: «Я никогда не считал себя – и довольно внятно это уже объяснил, я надеюсь, – сильной личностью, не принадлежал, как говорится, к числу людей, оставляющих неизгладимый след в истории или хотя бы в памяти современников» (262). Он негероичен, не имеет врагов, не способен на сопротивление и собственную позицию, в отличие от Руссо, но тоже беглец, бесприютный скиталец: «дошел до стадии стареющего истерзанного зверя, который, понимая, что раны его смертельны, ищет пристанище, чтобы закончить там свое существование» (298).
Внешним поводом к бегству («ma fuite») стало желание освободиться от «токсичных» отношений с любовницей-японкой («de me libérer d’une relation toxique»). Весьма симптоматично, что «токсичным», губительным, для него является неспособность Юдзу любить: «et cette infirmité une femme mais une sorte d’araignée» (68). Этот изъян делает ее не только опасной, но и безнравственной в его глазах. Бегство от любовницы сопровождается попутным разрывом всех социальных связей: «J’avais annulé les traces de ma vie sociale antérieure sans réel problème». Свое «un disparu volontaire» он неоднократно уподобляет самоубийству, смерти. Интересно, что тотальное одиночество Руссо в последние годы жизни в исследовательской литературе определяют «гражданской смертью», «чистилищем», а сами «Прогулки одинокого мечтателя» – «мечтами из могилы» [Guitard-Morel 2014]. Решаясь бежать, Флоран-Клод Лабруст боится преследований («je craignais de ne pas réussir à m’échapper»), но «гонения», которые ему суждено претерпеть, связаны не с жестокостью мира и людей, а с запретом курить в отелях и других общественных местах.
В художественном творчестве и философских сочинениях Руссо значительное внимание уделено «сладострастному темпераменту», жизни тела, однако важным слагаемым его этики является идея психологического самоконтроля, чувствительность ставится превыше чувственности. В «Прогулках» он признается: «Тело мое для меня теперь только обуза, только помеха, и я заранее освобождаюсь от него, насколько могу» [Руссо 1961: 576]. Герой Уэльбека пытается позиционировать себя не столько чувствительным, сколько чувственным человеком – конец собственного существования связывает с исчезновением либидо, побочным действием принимаемого транквилизатора. Роковое событие его жизни, расставание с любимой, обусловлено неспособностью противостоять чувственным соблазнам. Вместе с тем сам препарат необходим, чтобы защититься от отчаяния и тоски, порождаемых чувствительностью. Руссо нашел умиротворение в самосозерцании, Флоран Лабруст – забвение и апатию в капториксе.
Основа сюжета романа – история путешествие героя по местам утраченной / преданной любви и дружбы. Цель путешествия – прощание с прошлым, с жизнью, с собой. Сентименталист-ский герой «обычно находится в разладе с обществом, но не с природой» [Пахсарьян 2006]. Определяющей темой сентименталистского дискурса является гармоническое слияние человека с природой. Руссо декларирует деятельное эмоциональное и интеллектуальное отношение к природе как к источнику восхищения и непрестанного познания. В своих созерцательных мечтаниях он «вживается» в пейзаж, становится его частью, наблюдает, страстно гербаризирует, катается на лодке, сострадает всему живому, напри- мер спасает кроликов. Сама пешая прогулка является формой активного освоения ландшафта.
Герой Уэльбека – специалист в области сельского хозяйства, в самом начале пути у него есть уверенность в том, что судьба приведет его «в сельскую местность» («vers des zones rurales»), так как привязан к ней с самого детства. Патриархальности провинции, «сельской местности» тенденциозно противопоставляются агрессия и бездушие мегаполиса: «опасался возвращения в Париж», «меня воротило и от Парижа, я испытывал отвращение к городу», «Париж словно создан порождать одиночество» (61, 214). Флоран Лабруст «в прошлом интересовался в основном растениями», студентом посещал спецкурс «спонтанная растительность городской среды» (183). Однако герой Уэльбека лишен присущих Руссо восторженности и системности, взгляд привычно фокусируется на «лианах», «мхах», «травах», но он забывчив и не помнит названий: «какие-то кустики с желтыми цветами» (146).
Флоран Лабруст путешествует на автомобиле, в связи с чем траектория движения условно свободна – зависит от проходимости дорог, наличия указателей: «Я довольно часто останавливался, пытаясь сообразить, что я здесь делаю, но мне это плохо удавалось, клочья тумана скользили над пастбищами, где я не заметил ни одной коровы» (171). Его пешие прогулки часто сопровождаются выслеживанием, соглядатайством: «во мне погиб полицейский, я хотел бы вмешиваться в жизни людей и разгадывать их тайны» (191). Он рассматривает пейзажи извне , будучи посторонним , в качестве преграды выступает лобовое стекло автомобиля, бинокль, прицел винтовки и т. д. Флорану Лабрусту не удается слиться с пейзажем, освоить и познать его, отчего одиночество героя становится абсолютным.
Одним из ключевых образов психологического пейзажа в творчестве Руссо является озеро. В романе «Юлия, или Новая Элоиза» озеро символизирует «скрытые бури страстей и своеволие стихии» [Забабурова1992: 132]. В «Исповеди» это часть идиллического хронотопа, на протяжении повествования неоднократно повторяется идеал безмятежной жизни: «мое воображение, оно всегда стремится в кантон Во, на берег озера, в очаровательную местность. Мне необходим фруктовый сад на берегу именно этого озера, а не другого, мне нужен верный друг, милая женщина, домик, корова и маленькая лодка» [Руссо 1961: 138]. Пятая прогулка из «Прогулок одинокого мечтателя» посвящена воспоминаниям о жизни на острове Сен-Пьер посреди озера Бьен в Швейцарии. Воды озера, «шум и перекаты волн», вызывают «мимолетное размышленье о непрочности всего сущего в этом мире, образом чего была для меня поверхность озера» [Руссо 1961: 616]. Образ озера можно определить поэтической мифологемой жизни Руссо.
Озера – важная часть пейзажного фона и в романе Уэльбека. Мотив озера обрамляет историю любви Флорана и Камиллы, его идиллической возлюбленной: «мне было с ней спокойно, такого покоя я никогда не испытывал» (58). Симптоматично, что после расставания девушка поселилась в нормандской глуши, в уединенном лесном домике на берегу озера Рабоданж. Через много лет, тайно наблюдая за ее жизнью, он словно вторит Руссо: «Погода стояла великолепная, в лучах яркого жаркого солнца светилось озеро и мерцали леса. Не стонали ветры, не журчали воды, и вообще нежелание природы проявить хоть какое-то сочувствие казалось чуть ли не оскорбительным. Вокруг было тихо, величественно, безмятежно. Неужели я смог бы прожить вдвоем с Камиллой долгие годы в этом лесном домике на отшибе и чувствовать себя счастливым? Да, я точно знал, что да» (108). Топос озера здесь выполняет ту же функцию, что и у Руссо, – является частью психологического пейзажа, маркирует идиллию. Однако Флоран Лабруст отчужден не только от людей, но и от природы – «равнодушные» воды озера показывают, что эмоциональной и духовной связи человека и мира не дано состояться.
«Самосозерцание» Руссо и «самосочинение» героя Уэльбека сопровождаются отвлеченными рассуждениями о счастье, любви и одиночестве. Руссо, отрешившись от жизни и от надежды, признает: «Счастье – это неизменное состояние, не созданное для человека в этом мире. Все на земле – в непрерывном течении, которое не позволяет ничему принять постоянную форму, все изменяется вокруг нас. Мы изменяемся сами, и никто не может быть уверен, что завтра будет любить то же, что любит сегодня. Поэтому все наши мысли о счастье в этой жизни оказываются химерами» [Руссо 1961: 650]. Он прославляет одиночество, которое является своеобразной формой счастья. Как заключает Д. Д. Обломиевский: «Ранее герой обладал общительной душой. Теперь он отстраняется от других, но не забывает о себе. Ранее одинокие прогулки казались герою нелепыми и скучными. Теперь они приводят его в восхищение. Только отказавшись от общественных устремлений, он в полной мере обрел природу со всеми ее “чарами”» [Обломиевский 1988: 144].
Флоран Лабруст убежден: «Я был счастлив, я в курсе, что такое счастье, и могу рассуждать о нем со знанием дела, но также мне известен и его финал, то, к чему оно обычно приводит» (58). Для того что быть счастливым, необходима любовь, одиночество невыносимо: «нет в мире од- ного – и все мертво, мир мертв, и ты умер сам либо превратился в керамическую фигурку, и все вокруг превратились в керамические фигурки, кстати, керамика – идеальный электрический и тепловой изолятор, благодаря ему вас уже ничто не прошибет, за исключением внутренних мучений, вызванных распадом вашего автономного тела» (58). Повседневное, бытовое значение слова «серотонин», давшего название роману, – «гормон счастья». Герой Уэльбека находится в зависимости от препарата, вырабатывающего серотонин. Роман начинается и заканчивается одной и той же фразой: «Маленькая белая таблетка овальной формы с насечкой посередине». Она не приносит счастья, «смысл ее заключается в другом: превратив жизнь в последовательность механических действий, она просто помогает обманываться» (315).
Руссо «никогда не забывает о себе как о творце своей вселенной, оставляя за собой последнее слово создателя» [Симонова 2016: 10]. Он приходит к самосозидательному утешению – одинок, умиротворен и спокоен, «как бог». Пороком современного человека является безволие, отсутствие созидательной энергии, даже утешение приобретает искусственный характер. В обоих произведениях появляется экзистенциальная метафора: «жизнь – борьба». Но Флоран Лабруст рожден неспособным на сопротивление и терпит поражение в «борьбе за существование», не вступая в поединок. Он создает книгу, темой которой является сам, не претендуя через эту книгу, слово о себе, состояться.
Сентиментализм – это художественный язык и комплекс переживаний, сосредоточенный на человеке, его сокровенном, интимном опыте. Диалог с сентименталистской традицией на современном этапе культуры, в обстоятельствах разрушения традиционных систем и моделей социальных отношений, показывает, что человек сохраняет нравственные идеалы добра, естественности, испытывает потребность в любви и самовыpажении; но, разрушив связи с природой и оказавшись заложником цивилизации, он стал значительно слабее. На смену созерцательной меланхолии приходит горькое отчаяние.
Perm State University
Submitted 01.09.2020
The article analyzes sentimentalist origins in the poetics of the novel Serotonin (2019) by M. Houellebecq. It considers realization of the sentimentalism traditions in the literature process at the turn of the 20th–21st centuries; the analysis is based on the studies of Russian and foreign scholars. The revival of interest in the inner world of a private person, sincerity of the words is considered to be one of the main reasons for developing ‘new sentimentality’. The research is focused on J. J. Rousseau’s traditions in sentimentalism. The paper provides a comparative analysis of the novel under study and autobiographic works by J. J. Rousseau such as The Confessions (Les Confessions, 1765–1770) and Reveries of the Solitary Walker (Les rêveries du promeneur solitaire, 1776–1778). The starting point of the plot in both Reveries of the Solitary Walker by Rousseau and Serotonin by Houellebecq is the narrator’s statement of his absolute solitude and premonition of his coming death. In such tragic circumstances every person tries to say the last words about themselves. In both novels the theme of writing is of great importance and the narrator’s own personality and destiny become an object of creative reflection. The main purpose of the narrator in Reveries of the Solitary Walker is to tell the truth about himself to himself. There is no companion in the person of a compassionate reader, which is important to the sentimentalist tradition, in the Rousseau’s novel. The character of narrator in the novel by Houellebecq is focused on describing the circumstances which led him to the failure in the fight for survival. That is why his life ends in loneliness, sadness and suffering. Reflecting upon his own life, he offers the attentive reader to fill the gaps and establish a casual connection. The theme of memory is realized in relation to the process of self-description. In the Rousseau’s novel, the narrator’s diving into himself and writing about himself are done during his solitude walks full of dreaming and contemplation of nature, which helps him find peace and quiet. The Houellebecq‘s narrator compares his own experience with that of the Rousseau’s character and admits the mediocrity and insignificance of his own existence. He is running on a sentimental journey to the places of the lost love and friendship but he is incapable of reaching unity with nature, which could be salvation for him. His lot is despair. Reproducing a significant number of motifs and images used by Rousseau in The Confession and Reveries of the Solitary Walker , Houellebecq reflects on the human and eternal values via the dialogue.
Список литературы Сентименталистский код в романе М. Уэльбека "Серотонин"
- Бахтин М. М. Проблемы сентиментализма // Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Рус. словари, 1997. Т. 5. С. 304-305.
- Джумайло О. А. Английский исповедально-философский роман 1980-2000. Ростов н/Д: Изд-во Юж. федер. ун-та, 2011. 320 с.
- Забабурова Н. В. Французский психологический роман: Эпоха Просвещения и романтизм. Ростов: Изд-во Рост. ун-та, 1992. 224 с.
- Ермолин Е. А. Медиумы безвременья. Литература в эпоху постмодерна, или трансавангард. М.: Время, 2015. URL: https://www.academia.edu/ (дата обращения: 10.03.2020).
- Котелевская В. В. К модернистской поэтике и поэтологии прогулки: Р.М. Рильке, Р. Вальзер, Т. Бернхард, П. Хандке // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2017. Т. 9, вып. 3. С. 96-108. doi 10.17072/ 2037-6681-2017-3-96-108
- Левина-Паркер М. Введение в самосочинение: аШюйсйоп // НЛО. 2010. № 3 (103). С. 12-40.
- ЛейдерманН. Л., ЛиповецкийМ. Н. Современная русская литература: в 3 кн. Кн. 3: В конце века (1986-1990-е годы). М., 2001. 159 с.
- Обломиевский Д. Д. Руссо // История всемирной литературы: в 8 т. М.: Наука, 1988. Т. 5. С.137-144.
- Пахсарьян Н. Т. Кудрез А. Сознание современности: Изображение Просвещения в современной литературе. Coudreuse A. La conscience du présent. Représentation des Lumières dans la littérature contemporaine. Paris: Classiques Garnier, 2015. 433 p. // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7, Литературоведение: реф. журн. 2017. С. 200-206.
- Пахсарьян Н. Т. Сентиментализм: попытка определения // Литература в диалоге культур - 3. Ростов на/Д, 2006. URL: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-all/pahsaryan-sentimentalizm-popytka-opredeleniya.htm (дата обращения: 10.04.2020).
- Руссо Ж.-Ж. Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя / пер. с фр. Д. А. Горбова, М. Н. Розанова // Русш Ж.-Ж. Избранные сочинения: в 3 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1961. Т. 3. 725 с.
- Симонова Л. А. Французская проза первой половины XIX века и проблема личного письма: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2016. 47 с.
- Уэльбек М., Леви Б.-А. Враги общества / пер. с фр. Е. Кожевниковой. СПб.: Азбука-Аттикус, 2011. 320 с.
- Уэльбек М. Оставаться живым / пер. с фр. И. Кузнецовой // Уэльбек М. Очертания последнего берега. М.: АСТ: CORPUS, 2016. С. 7-32.
- Уэльбек М. Серотонин / пер. с фр. М. Зо-ниной. М.: АСТ: CORPUS, 2019. 320 с.
- Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе. М.: Высшая школа, 2005. 505 с.
- Bercegol F. Introduction // Métamorphoses du roman sentimental XIX-XXI siècle. Paris: Classiques Garnier, 2015. P. 5-17.
- Bottarelli A. «Nous habitons l'absence». Michel Houellebecq: négociation de présence et dispersion créatrice. Université de Lausanne, 2016. 156 р.
- David M. La Mélancolie de Michel Houellebecq. Paris: L'Harmattan, 2011. 264 p.
- Guitard-Morel J. Comment les espaces parcourus créent-ils une généricité de la promenade dans l'œuvre Les Rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau? // Sciences humaines combinées. № 13. 2014. URL: https://preo.u-bour-gogne.fr/shc/index.php?id=355 (дата обращения: 21.07.2020)
- Houellebecq M.Sérotonine. Paris: Flammarion, 2019. URL: https://www.rulit.me/author/uelbek-mi-shel/serotonine-get-547930.html (дата обращения: 10.03.2020).
- Kon L. Mélancolie, pharmakon et révolte: Extension du domaine de la lutte et l'atténuation du malheur de vivre. Ph.D. Thesis. Winnipeg: University of Manitoba, 2019. 383 р.
- Meizoz J. «Postures» d'auteur et poétique (Ajar, Rousseau, Céline, Houellebecq) // Vox Poetica, 2004. URL: http://www.vox-poetica.org/t/articles/-meizoz.html (дата обращения: 24.07.2020)
- Montandon A. Sociopoétique de la promenade. Clermont-Ferrand: PUBP, 2000. 234 p.
- Rousseau J-J. Les Confessions. Livres I à VI. Paris: Flammarion, 2002. 423 р.
- Rousseau J-J. Les Rêveries du promeneur solitaire // Rousseau J-J. Collection complète des oeuvres, vol. 10, in-4. Genève, 2012. Р. 369-518.
- Sert H. Errances et mélange des genres: La Promenade littéraire en question. 2014. URL: http://www.cellf.parissorbonne.fr/sites/default/files/-articles/hugo_sert_errances_melanges_genres_retour. pdf (дата обращения 21.07.2020)