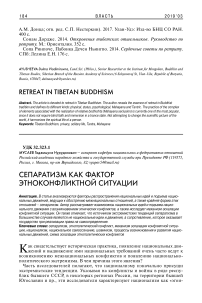Сепаратизм как фактор этноконфликтной ситуации
Автор: Мусаев Гаджимуса Нурудинович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Этносы и конфессии
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются факторы распространения национальных идей и подъема национальных движений, ведущих к обострению межнациональных отношений, а также крайняя форма этих отношений - сепаратизм. Автор рассматривает взаимосвязь национальных идей и подъема национального движения с возникновением этнических конфликтов, а также исследует механизм эскалации конфликтной ситуации. Он также отмечает, что источником экстремистских тенденций сепаратизма в большинстве случаев являются не национальные идеи и движения, а сопротивление, которое оказывает государство при реализации права на самоопределение.
Сепаратизм, этнополитический конфликт, механизм эскалации конфликтной ситуации, национализм, национальное самосознание, шовинизм, процессы возникновения и развития национальных движений, схема эскалации этнополитических конфликтов
Короткий адрес: https://sciup.org/170170934
IDR: 170170934 | DOI: 10.31171/vlast.v27i3.6442
Текст научной статьи Сепаратизм как фактор этноконфликтной ситуации
К ак свидетельствует историческая практика, появление национальных движений и выдвижение ими национальных требований очень часто ведут к возникновению межнациональных конфликтов и появлению национальнополитического экстремизма. В чем причина этого явления?
Часть исследователей полагают, что национализму изначально присущи экстремистские тенденции. Указывая на конфликты и войны в ряде республик бывшего СССР, в некоторых регионах России, на территории бывшей Югославии и пр., эти исследователи характеризуют национализм как «эгои- стическое самоутверждение», «взвинченное национальное самосознание», которое враждебно всем соседним народам и является самопроизвольным генератором войн и конфликтов. «Национальная идея, призванная быть катализатором возрождения нации, народа, становится разрушительной силой, бессмысленной и человеконенавистнической, – отмечает Е.А. Лукашева. – На передний план выдвигаются коллективные права нации, народа, которые они стремятся реализовать любой ценой, даже ценой массового истребления своего и чужих народов» [Лукашева 1994: 54].
Такая характеристика национализма и его влияния на отношения между народами связана с пониманием национализма как мегалотимного явления, т.е. явления, требующего признания бóльших прав представителей одной группы людей по сравнению с другими и в ущерб им. Подобный взгляд характерен для сторонников либерально-индустриальной теории. Так, Ф. Фукуяма утверждает, что национализм требует «признать права только членов данной нации или этнической группы» [Fukuyama 1992: 261].
Однако другие ученые полагают, что такое отношение к национализму является результатом разного понимания содержания этого термина и путаницы в терминологии. Крайнее проявление национальных (этнических) чувств и связанные с ними идеология и политика обычно называют шовинизмом. Национализм, рассматриваемый как идеология и политика, выражающие объективные интересы и цели нации, в целом является изотимным явлением, т.е. требует признания «коллективной личности» нации, а также признания и удовлетворения ее базовых интересов. «Нация требует самоопределения не как исключительной привилегии, но как средства реализации общего положения о том, что каждой нации необходимо собственное государство», – отмечает Г. Нодия [Нодия 1994]. Таким образом, исходные идеи национализма, требующие признания равноправия одной нации по сравнению с другими нациями, совершенно естественны, хотя при определенных обстоятельствах национализм может трансформироваться в противоположные формы – шовинизм, расизм, фашизм.
Изучая процессы возникновения и развития национальных движений, исследователи пришли к выводу, что стремление к самоопределению является закономерным и неизбежным следствием развития (самопознания) нации. Князь Н.С. Трубецкой отмечал, что «когда исторические условия складываются так, что данный народ попадает под власть или экономическое господство другого народа, совершенно чуждого ему по духу, и не может создать самобытной национальной культуры без того, чтобы освободиться от политического или экономического засилья иноплеменников, – стремление к эмансипации, к государственной самостоятельности является вполне обоснованным, логически и морально оправданным» [Трубецкой 2000: 50]. Более того, в другой статье он предупреждал, что попытка отнять или умалить права, которые получила нация в борьбе за самоопределение, «вызвала бы самое ожесточенное сопротивление», а народ, вступивший на путь подавления прав других народов, «тем самым обречет себя на длительную и тяжелую борьбу со всеми этими народами, на постоянное состояние то явной, то скрытой войны со всеми ими». А известный немецкий философ, экономист, социолог и культуролог Альфред Вебер еще в 1924 г., задолго до освобождения колониальных стран, предсказал, что движение за национальное освобождение, возникшее в странах Азии и Африки, станет одной из ведущих сил мировой политики: «Проложит себе путь тенденция, состоящая в том, что исторические образования и расы, которые на ставшем меньше земном шаре оказались порабощены империализмом, не только попытаются освободиться от империалистических пут, но, кроме того, будут стремиться воссоздать самобытные формы духовной жизни, имеющие им одним свойственные черты» [Вебер 1995: 290].
Вместе с тем хорошо известно, что распространение национальных идей и подъем национальных движений нередко приводят к обострению межнациональных отношений, а иногда – и к возникновению так называемых межнациональных, т.е. этнополитических, конфликтов. Не рассматривая случаи, когда межнациональные конфликты вызваны факторами, не имеющими отношения к предмету нашего исследования (например, территориальные противоречия между соседними народами), необходимо отметить, что конфликты, связанные с попытками нации реализовать свое право на самоопределение, фактически не являются межнациональными, хотя часто квалифицируются как таковые даже в серьезных исследованиях [Тишков 1997].
На самом деле участниками данных конфликтов выступают не две нации, а нация, стремящаяся к государственно-политической самоорганизации, и государство, теми или иными способами препятствующее этому стремлению. Следовательно, такого рода конфликты следует квалифицировать не как межнациональные, а как конфликты между нацией и государством.
Разумеется, сложные перипетии борьбы за самоопределение зачастую сопряжены с обострением межэтнических отношений, причиной которого могут быть перехлесты национальных движений, опасения представителей инонациональных общин за свое положение (в первую очередь общины народа, от имени которого действует государство, препятствующее самоопределению) в случае реализации самоопределения в его максимальной форме, а также другие факторы либо их различное сочетание в зависимости от конкретной ситуации и развития событий. Однако обострение межэтнических отношений в процессе борьбы за самоопределение является чаще всего второстепенным и побочным явлением. Главным содержанием рассматриваемого конфликта остается все-таки противоборство нации и государства.
Механизм эскалации конфликтной ситуации хорошо известен и достаточно прост. Сначала национальное движение «от имени народа» (формой представительства «народного волеизъявления» могут быть национальный съезд, национальный конгресс, национальный совет и т.п.) заявляет о желании нации выйти из состава государства-метрополии и образовать собственное суверенное национальное государство. Органы власти метрополии отвергают возможность предоставления независимости, ссылаясь на «неконституционность» этих требований (разумеется, ни одна конституция ни одного государства не предусматривает возможность его развала), на недостаточную представительность национального форума, невозможность разделения государственной территории по геополитическим, политическим, военно-стратегическим, экономическим, культурно-историческим и прочим причинам. Одновременно исполнительные органы и силовые структуры государства оказывают давление на лидеров и активистов национального движения, пытаясь заставить их отказаться от поддержки сепаратистских лозунгов. В ответ сепаратисты выдвигают более радикальные требования и обращаются за поддержкой «к народу». На этом этапе в борьбу включаются широкие массы; для него характерны массовые формы политической борьбы: демонстрации, митинги, манифестации, пикеты и пр. Власти пытаются остановить массовое движение при помощи полицейских акций (разгоны, запреты демонстраций и митингов и пр.) и судебно-административных репрессий (штрафы, увольнения, организация судебных преследований и пр.). Для защиты от полицейских акций национальные движения формируют военизированную охрану («отряды самообороны» и пр.), которая становится национальным вооруженным формированием. Таким образом, конфликтная ситуация переходит в этап вооруженного противостояния. Инициатива любой из сторон противостояния (обычно такую инициативу проявляет более уверенное в своих возможностях государство) разрешить конфликт силовыми методами ведет к превращению вооруженного противостояния в вооруженный конфликт. При этом сторонники государства трактуют конфликт как «операцию по наведению порядка» (известный вариант этого эвфемизма – «восстановление конституционного порядка»), а сторонники независимости – как «национально-освободительную войну».
Итогом вооруженного этнополитического конфликта может стать либо победа сепаратистского движения – и тогда происходит фактическое отделение определенной этнической территории от государства-метрополии и формируется независимое национальное государство со всеми атрибутами суверенитета (как это произошло, например, в Абхазии, Южной Осетии – Алании, Нагорном Карабахе, Эритрее и других странах), либо победа сил государства и подавление сепаратистского движения: в этом случае сепаратисты уходят в подполье и продолжают борьбу террористическими и партизанскими методами (так сложилась ситуация в Северной Ирландии, испанской Басконии, курдских районах Турции и Ирака, Чечне и других регионах).
Из этого можно сделать вывод, что источником экстремистских тенденций сепаратизма в большинстве случаев являются не национальные идеи и движения, а сопротивление, которое оказывает государство при реализации нацией права на самоопределение, репрессии в отношении участников движения за независимость либо другие нарушения и ограничения прав нации, а также гражданских прав и свобод по национальному признаку (национальная дискриминация). Необходимо заметить, что прямая связь между репрессивными действиями государства и появлением национального экстремизма не является обратной: так, ослабление государственных репрессий или отмена дискриминационных актов чаще всего не приводят к исчезновению экстремистских движений. Национальный экстремизм обладает большой инерционной силой. Так, в Испании баскские экстремистские организации, появившиеся во времена диктатуры Франко, после проведения демократических реформ и прекращения политических репрессий в этой стране продолжают террористическую деятельность (хотя их активность в последние годы заметно спала). Практически такая же ситуация сложилась и в Северной Ирландии, где, несмотря на демократические перемены, сохраняют позиции католические и протестантские экстремисты.
Парад суверенитетов, вызванный распадом СССР, если не закончился, то несколько утих и перешел в латентную стадию. В то же время этнополитические конфликты продолжают тлеть. К этому опасному тлению добавляют «горючий материал» этнополитические ошибки руководства – как центра, так и периферии.
Конфликты, связанные с правами депортированных народов, остаются, но отступают и переходят на второй план. Им на смену приходят конфликты, вызванные территориальными изменениями или желанием таковых (Крым, Южная Осетия, Ингушетия, Чечня).
Схема эскалации этнополитических конфликтов, как всегда, стандартна.
Во-первых, этнос, считающий себя пострадавшим, требует, чтобы справедливость была восстановлена. Зачастую с перехлестом территорий и прав так называемых титульных народов и коренных жителей, которые порой не совпадают, что также усиливает накал межнациональных страстей.
Во-вторых, основной признак любого государства – территория. В связи с этим претензии по территории являются преобладающими. Они становятся причинами не менее 75% всех этнических конфликтов, например на постсоветском пространстве [Здравомыслов 1997].
В-третьих, к требованиям сепаратистских групп относятся, как правило, требования изменения границ, воссоздания утраченных национальных образований и, как и прежде, возвращения репрессированных и депортированных народов на прежнее место проживания с предоставлением им особого статуса и т.д.
Таким образом, любое государство, выпустив на волю джинна национального экстремизма, не в состоянии справиться с ним ни репрессиями, ни благотворными демократическими реформами.
Список литературы Сепаратизм как фактор этноконфликтной ситуации
- Вебер А. 1995. Германия и кризис европейской культуры. -Культурология. XX век: антология (гл. ред. и сост. С.Я. Левит). М.: Юрист. С. 281-296
- Лукашева Е.А. 1994. Межнациональные конфликты и права человека. - Права человека и межнациональные конфликты (отв. ред. Е.А. Лукашева). М.: Изд-во ИГПАН. 130 с
- Нодия Г. 1994. Демократия и национализм. - Век XX и мир. № 7-8
- Трубецкой Н.С. 2000. Об истинном и ложном национализме. - Мир России - Евразия: антология (сост. Л.И. Новикова, И.Н. Сиземская). Минск: Вышэйшая школа. 250 с
- Тишков В.А. 1997. Этнический конфликт в контексте обществоведческих теорий. - Очерки теории и политики этничности в России. М.: Информационно-издательское агентство «Русский мир». С. 303-319
- Здравомыслов А.Г. 1997. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М.: Аспект-Пресс. 288 с
- Fukuyama F. 1992. Тhе End оf History and the Last Man. N.Y.: Free Press. 488 p