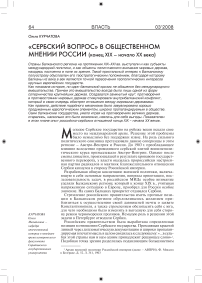"Сербский вопрос" в общественном мнении России
Автор: Курчатова Ольга Михайловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3, 2008 года.
Бесплатный доступ
Страны Балканского региона на протяжении XIX-XXI вв. выступали и как субъекты международной политики, и как объекты политического внимания мировых держав, находясь постоянно в поле их зрения. Такой пристальный интерес к Балканскому полуострову обусловлен его геостратегическим положением, благодаря которому Балканы из века в век являются точкой пересечения геополитических интересов крупных европейских государств. Как показала история, ни один балканский кризис не обошелся без международного вмешательства. Причем это вмешательство всегда было лишь одной из форм соперничества крупнейших держав. Создавался замкнутый круг: противоречия в противостоянии мировых держав стимулировали внутрибалканский конфликт, который в свою очередь обострял отношения между мировыми державами. Как правило, действие подобного механизма было завуалировано хорошо продуманным идеологическим элементом, широко пропагандируемым в обществе. Сами балканские государства, умело играя на противоречиях великих держав, старались, насколько это было возможно, извлечь для себя выгоды. Показателен в этом плане опыт российско-сербских отношений конца XIX - начала XX веков.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164383
IDR: 170164383
Текст обзорной статьи "Сербский вопрос" в общественном мнении России
м олодое Сербское государство на рубеже веков искало свое место на международной арене. Решение этой проблемы было немыслимо без поддержки извне. На роль сильного политического союзника претендовали давние соперницы в этом регионе – Австро-Венгрия и Россия. До 1903 г. преобладающее влияние вследствие проводимого сербской элитой внешнеполитического курса принадлежало Австро-Венгрии. Однако после смены династии, произошедшей в результате кровавого государственного переворота, у власти оказалась пророссийски настроенная партия радикалов и маятник благожелательного отношения Сербии качнулся в сторону Российской империи.
Разрабатывая общую концепцию внешней политики, включающую в себя основные направления, вопросы ориентации, последовательность задач, в российском МИДе особое внимание уделяли Балканскому региону, который к концу XIX в., учитывая напряженную ситуацию в Европе, приобрел для России особое значение. На самих Балканах приоритет отдавался Сербии.
Курчатова ольга
Михайловна – кафедра отечественной истории в новейшее время исторического факультета Саратовского государственного университета
Стремление российского правительства иметь прочные позиции в Балканском регионе обусловливалось желанием приблизиться к осуществлению своей давнишней мечты о захвате Константинополя, а также стремлением обезопасить себя с юга, для чего необходимо было изменить в выгодную для себя сторону режим черноморских проливов. Немалую роль в решении этой задачи в Петербурге отводили Сербии.
Российским правительством была выработана определенная позиция в отношении Сербского государства. Проходящая красной линией через дипломатическую документацию и широко пропагандируемая в печати мысль в целом сводилась к следующему: «…в судьбах этой страны нам и нам одним принадлежит решающее слово»1. Подобная точка зрения разделялась подавляющим большинством российского общества и обосновывалась тем, что «преобладающеевлияниеР-оссии… созидалось постепенно, исторически; оно крепло благодаря узам племенного родства и веры, связывающим Р-оссию с балканскими славянами; оно осуществлялось ценою дорогих тяжких жертв, принесенных Р-оссией великому делу бескорыстного освобождения православных братьев из-под мусульманского ига»1.
Непоколебимая уверенность в «законном» праве Р-оссии на доминирование в Сербии зиждилась на основательно разработанной и принятой российским обществом идеологической базе, стержнем которой был тезис о необходимости «покровительства» славянской Р-оссии над младшей славянской сестрой – Сербией. Отношения с Р-оссией «искренние и доверчивые… в сознании всего сербского народа составляют единственную основу для успешного развития его судеб на пути самобытности и независи-мости»2. Р-оссия таким образом решала свои практические интересы, поставив их на идеологический фундамент.
Главным декларируемым принципом российского правительства был «принцип невмешательства во внутренние дела Сербии», но даже в годы охлаждения отношений Р-оссия не оставляла Сербское государство без внимания. Вплоть до 1903 г. преобладающее влияние в Сербии принадлежало А-встро-Венгрии, которая добилась благосклонности сербской политической элиты в лице Милана Обреновича и его сына А-лександра.
Своеобразным показателем зависимости Сербии от А-встро-Венгрии стало подписание секретного договора в 1881 г., по которому Сербия фактически попадала в политическую зависимость. Р-астущее год от года влияние А-встро-Венгрии в Сербском государстве заставляло Р-оссию саркастически негодовать: «Сербский народ обязан верить в благодатные последствия этой опеки. В сербском обществе не смеет зародиться нерасположение к могущественной покровительнице А-встрии…»3
Р-оссия в 1897 г. поспешила заключить договор с А-встро-Венгрией о status-quo в отношении Сербии. Министр иностранных дел А-. Б-. Лобанов-Р-остовский высказался по этому поводу: необходимо «поставить Б-алканы под «стеклянный колпак», пока Р-оссия не разделается с другими, более спешными делами»4.
Р-оссия, однако, не оставляла попыток обрести союзника внутри Сербии, и нашла его в лице радикальной партии. «У Петербурга появился реальный шанс восстановить здесь свои позиции»5. Главной политической фигурой, на которую сделала ставку Р-оссия, был лидер радикалов – Никола Пашич, который неоднократно заявлял о своих симпатиях к Р-оссии. И все же до 1903 г. российскому правительству не удавалось сблизиться с Сербией, настолько, насколько ей этого хотелось. Вслед за Миланом Обреновичем его внешнеполитическую линию продолжил сын А-лександр, который «бросался из крайности в крайность – от «оттепели» к «заморозкам»6.
В Р-оссии время правления последних Обреновичей как официальными кругами, так и основной частью общества воспринималось крайне негативно, как вредное и для Р-оссии, и для самой Сербии7. Причем критика была направлена исключительно на правящие круги, не затрагивая всего сербского народа, который вызывал в сложившейся ситуации скорее сочувствие. В либеральной печати появились призывы не смотреть безучастно на действия сербского правительства: «Долг русской политики – противостоять такой направленности, спасти Сербию для самой же Сербии»8.
Таким образом, все составляющие российско-сербских отношений даже не в самое благоприятное время удачно вписывались в идеологический тезис о Сербии как вечном союзнике Р-оссии, поскольку имелся в виду весь сербский социум, который, по словам дипломатического представителя в Б-елграде, несмотря ни на что, хорошо оцени вал «нравс твенное отличие политики
Р-оссии, которая, несмотря на свою отдаленность, сохраняет свое обаяние среди народа»1.
В отчетах МИДа и российской прессе постоянно противопоставлялись мотивы А-встро-Венгрии и Р-оссии в стремлении детерминировать сербскую политику и подчеркивалось, что «габсбургская монархия по необходимости связала свою политику… с интересами отдельных лиц», а «образ действий Р-оссии зиждился на понятном тяготении единоплеменных и единоверных сербов к мощной покровительнице всех славян Б-алканского полу-острова»2. Кроме того, А-встро-Венгрия, по мнению российских дипломатических представителей, имела своей конечной целью «возможно больший подрыв обаяния, которым пользуется Р-оссия в среде славянских государств»3.
После майского переворота Р-оссия одна из первых признала новую власть, несмотря на все негативные аспекты этого события с точки зрения международного права. Положительным моментом для прагматичных интересов Р-оссии стала пророссийская позиция новой сербской власти. На сербский престол взошел представитель династии Карагеоргиевичей – Петр, характеризуя которого император Вильгельм сказал: «Новый сербский король будет служить орудием политики Р-оссии»4. Подобное мнение муссировалось в кругах российской общественности, но уже в позитивном ключе.
Сербское правительство возглавил НиколаПашич, пословамЛ. Д. Троцкого, «старшее лицо в Сербии, ибо король только марионетка Пашича и его ближайших сотрудников»5. Н. Пашич считал непременным следующий расклад: «…определение во внутренней политике в пользу парламентских методов и конституционной власти, пользующейся доверием большинства народа, непременно ведет во внешней политике к ориентации на славянскую, православную Р-оссию». Во многом именно благодаря
Пашичу русско-сербские межгосударственные отношения потеплели6.
Для Р-оссийской империи положительный момент русофильски настроенного нового сербского режима омрачался, помимо нравственных аспектов его прихода к власти, еще одним серьезным обстоятельством: Р-оссия, являясь государством с монархическим строем, веками отстаивая принципы защиты и поклонения, преданности персоне царя, не могла не осудить убийство монарха.
Кроме того, необходимо было найти приемлемое для общества объяснение следующему факту: убитый А-лександр Обренович, какие бы пороки ему ни были присущи, по какому бы пути он ни вел свой народ, оставался все же представителем законной династии Сербии, кроме того, убийство было совершено славянами с поражающей воображение жестокостью. Консервативная печать так «объяснила» этот феномен: в чистые нравы славян за время турецкого ига «проникли баши-бузукские черты, просыпающиеся по временам», а следовательно, сама идея переворота – идея, не принадлежащая славянскому сознанию, она пришлая, навязанная. И дальше автор статьи отмечает, что сербский народ все же смог сохранить в большинстве своем чистоту нравов и, как следствие этого, он «сохраняет отвращение к цареубийцам»7.
Р-оссия признала новую власть, заявив на страницах печати, что каким бы сложным ни было положение в Сербии после 1903 г., «оно все-таки лучше турецкого или швабского-австрийского ига», тем более, что каждый народ обладает правом устраивать свою жизнь «как ему угодно, или как ему кажется наиболее целесооб-разным»8. В этой ситуации провозглашаемый Р-оссией принцип невмешательства пришелся как нельзя кстати. Р-оссия, признав результаты майского переворота, в определенной степени потерпела поражение морального плана, поскольку подобное отношение к свержению династии содержало скрытую угрозу идее незыблемости монархии, а значит, и существованию императорской власти и в Р-оссии. Но при этом Сербия получила в критический момент поддержку Р-оссии, что было для нее крайне важно, поскольку существовала реальная угроза вмешательства в сербскую ситуацию австрийских войск.
Ч-то касается самой Сербии и ее потребности в покровительстве Р-оссии, то ситуация выглядела следующим образом. После Б-ерлинского конгресса 1878 г., обескровленная в Р-усско-турец-кой войне Р-оссия на время «выбыла из игры» за преобладание на Б-алканах. Политическая элита молодого сербского королевства находилась под сильным негативным впечатлением от попыток Р-оссии на протяжении восточного кризиса 1875–1878 гг. добиться образования и международного признания сильного болгарского государства, призванного играть ключевую роль на Б-алканах, которая в их представлении должна была принадлежать Сербии. Но Р-оссия, для которой главной целью на Б-алканах были Константинополь и проливы, оказывала Б-олгарии все большую поддержку, через которую лежал кратчайший путь к заветным целям. Р-усский посланник в Б-елграде С. Н. Трубецкой отмечал: «Б-олгария была нашим любимым детищем, а Сербия – забытой падчерицей»1. Таким образом цели Р-оссии и Сербии на данном историческом этапе не совпали. Сербская элита развернулась в сторону А-встро-Венгрии, с помощью которой рассчитывала реализовать свою мечту о собирании земель вокруг Сербии.
Те же цели преследовала Сербия, во главе которой находились Петр Карагеоргиевич и Никола Пашич, сделавшие ставку на поддержку православной Р-оссии. Король Петр на аудиенции с дипломатическим представителем высказал свою надежду на помощь Р-оссии: «Пока Сербия находится еще почти в полной экономической зависимости от А-встрии и мы надеемся, что при помощи Р-оссии мы понемногу освободимся от нее»2.
Пашич в отличие от короля действовал более активно и смог, как тогда говорили, так привязать «маленький сербский плот к огромному русскому кораблю», что интересы Сербии нередко рассматривались в Петербурге как свои собственные. При этом Пашич, демонстрируя профессионализм политика, сумел, заручившись поддержкой великой державы, сохранить при этом государственное достоинство своей «малой» родины, не превратившись в заурядного сателлита могучего покровителя.
Таким образом сербская элита стремилась по возможности использовать вес и силу Р-оссии для достижения собственных целей. При этом она старалась не допускать доминирования Р-оссии в своем государстве, что, как правило, Сербии удавалось, поскольку этому способствовало, во-первых, противодействие других великих держав и самой Сербии, во-вторых, географическая отдаленность Р-оссии, ее политическая, экономическая нестабильность.
Ч-то касается Р-оссии, то ее правительство воспринимало Сербию сквозь призму соперничества с другими государствами, пытаясь использовать ее для достижения своих целей в игре на мировой политической арене. В то же время и правительство, и особенно общество, проецируя этническое родство и религиозную общность на межгосударственные отношения, воспринимали Сербию в качестве «вечного союзника» и верили в то, что проводимая внешнеполитическая линия в конечном итоге имела для «младшей славянской сестры» несомненное благо. В различные исторические периоды один из этих двух главных мотивов внешней политики Р-оссии приобретал доминирующее значение, но, как правило, оба компонента были тесно переплетены.
В современном политическом пространстве Сербия по-прежнему привлекает к себе интерес многих сильных государств. Р-оссия, в которой восприятие Сербии в качестве «вечного союзника» до сих пор является особой социальнокультурной константой, пытается в меру своих сил отстаивать здесь свои позиции. Мотивация и сейчас основывается на императивах вековой давности: «славянское братство» важно как само по себе, так и в качестве составляющей национальной безопасности…