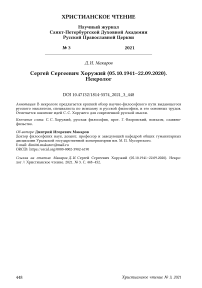Сергей Сергеевич Хоружий (05.10.1941-22.09.2020)
Автор: Макаров Дмитрий Игоревич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Некролог
Статья в выпуске: 3 (98), 2021 года.
Бесплатный доступ
В некрологе предлагается краткий обзор научно-философского пути выдающегося русского мыслителя, специалиста по исихазму и русской философии, и его основных трудов. Отмечается значение идей С. С. Хоружего для современной русской мысли.
С. с. хоружий, русская философия, прот. г. флоровский, исихазм, славянофильство
Короткий адрес: https://sciup.org/140255120
IDR: 140255120 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_3_448
Текст научной статьи Сергей Сергеевич Хоружий (05.10.1941-22.09.2020)
Об авторе: Дмитрий Игоревич Макаров
Доктор философских наук, доцент, профессор и заведующий кафедрой общих гуманитарных дисциплин Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского.
Ссылка на статью: Макаров Д. И. Сергей Сергеевич Хоружий (05.10.1941–22.09.2020). Некролог // Христианское чтение. 2021. № 3. С. 448–452.
KHRISTIANSKOYE CHTENIYE [Christian Reading]
Scientific Journal
Saint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church
No.3 2021
Dmitry I. Makarov
Sergey S. Horuzhy (October 5, 1941 – September 22, 2020): An Obituary
Khristianskoye Chteniye , 2021, no. 3, pp. 448–452.
22 сентября 2020 года ушел из жизни Сергей Сергеевич Хоружий. Особенно горестно это известие для тех, кто осознавал и осознает масштаб дарования покойного и значимость для нашей эпохи, равно как и для последующих эпох, его богословских и философских идей и счастлив почитать себя в числе близких друзей усопшего. Разумеется, скорбь эта с самых первых минут сопровождается и тихой радостью — о новопреставленном рабе Божием, только что вошедшем (чаем! верим!) в пир Господина своего, в тот громовой вопль восторга серафимов , который волновал и манил Достоевского. В тот Фаворский свет, о котором усопший столько сказал, написал и передумал на протяжении земной жизни.
Физика и математика, литература и переводческое искусство, языки, философия и богословие у Сергея Сергеевича Хоружего органичным образом дополняли друг друга, вырастая одно из другого и одно через другое прорастая — к некоему высшему синтезу строгой, в духе Гуссерля, феноменологии и русско-византийско-паскалевской кардиогносии, Разума и Чувства, Родного и Вселенского. Нельзя даже сказать, что он пришел к философии через математику, как Бадью, или через богословие, как отец Павел Флоренский, — настолько естественно было в нем с самых младых лет это соцветие талантов. Такая духовная конституция встречается у наиболее возвышенных людей, и как раз Русская земля богата подобными талантами (примеры великих можно множить, и прежде всего — из той бессмертной ветви русской религиозной философии вплоть до Лосева и Бибихина, которую Сергею Сергеевичу было суждено — и благословлено — сохранить, преумножить и сберечь в отнюдь не тепличных условиях). Но в связи с этой конкретностью мышления, этим — представленным Сергеем Сергеевичем в преизрядной мере — конкретным идеализмом можно вспомнить и таких великих собирателей русского и византийского духовного космоса, как Владимир Николаевич Лосский, прот. Георгий Флоровский (лучшим знатоком идей и взглядов которого в России был С. С. Хоружий), Сергей Сергеевич Аверинцев, и — помимо блестяще синтезированных Хоружим философски с идеями исихазма Хайдеггера и Фуко — мы бы здесь вспомнили и тот итальянско-испанский конкретный тип мышления, что представлен Вико и Кроче, Мигелем де Унамуно и Хосе Ортегой-и-Гассетом…
Невзирая на все эти немыслимые порой переплетения, на любовь к высокой культуре и музыке и чрезвычайную и очень ответственную погруженность в эту культуру, Сергей Сергеевич, думается, оставался прежде всего русским странником, пилигримом, пришедшим в сей мир, чтобы воспринять великие духовные традиции, связать их воедино, осмыслив в современном контексте децентрации, десубъективации и fin de tout, и в обновленном виде, преумножив, передать грядущим поколениям.
Духовное учение исихазма играло в этом синтезе миросозерцания и жизнестро-ения совершенно особую роль. И тут пишущему отрадно вспоминать и осознавать, как скромно — но с тихой уверенностью, плирофорией (о которой пишут старцы как о признаке посещения души Св. Духом — в частности, пс.-Макарий Египетский) — усопший сообщал ему о том, что место его работ, его делянка, или домен, называется антропологией исихазма… По великой скромности души он не почитал и не мнил себя византологом (хотя принимал участие в организации ряда визан-тиноведческих конференций, в том числе и посвященных великому 2000-летнему юбилею христианства, и входил в редколлегию книжной серии «Византийская библиотека»). В узких кругах последователей, почитателей и друзей известна любовь Сергея Сергеевича к картине Нестерова «Мыслители»; одно из последних его фото сделано в Третьяковской галерее как раз перед ней. Я бы сказал, что эта фотография и сама совмещенность — в одном локусе и ракурсе — отца Павла Флоренского, Сергия Булгакова (тогда еще не отца), Нестерова и Хоружего — один из символов нашей современной культуры. Сергей Сергеевич категорически не принимал марксизм-ленинизм и прочие «измы», считая их ответственными — помимо прочего — за очередной виток катастрофических разрывов русской жизни, духовности и культуры. И не нужно дожидаться наступления «времен отдаленных», чтобы в этом вопросе, как и в ряде других — о Джойсе, о св. Григории Паламе, о прп. Максиме Исповеднике, — согласиться с ним. Будучи личностью цельной и ответственной (и по Бахтину, и в иных системах координат), Сергей Сергеевич не бросал слов на ветер и не произносил ни слова зря. В последние годы и месяцы его беспокоили темы эсхатологии и апокалипсиса культуры; свое последнее выступление на легендарном семинаре Института синергийной антропологии (основанного Сергеем Сергеевичем при деятельной помощи Елены Леонидовны Ивановой и еще нескольких коллег) он посвятил именно этой теме.
Будучи человеком, глубоко укорененным и в современности и рядом своих граней сообразным с ней, Сергей Сергеевич вполне прилично разбирался в современной технике и в то же время предупреждал против чрезмерного погружения в виртуальность, против чрезмерного серфинга в ее волнах… То исихастское трезвение ума, о котором говорят отцы «Добротолюбия», то внутреннее духовное делание и самособирание души, о котором свидетельствовал своей жизнью прп. Феодосий Печерский и о чем блестяще убедительно и с полной и неотразимой доказательной базой написал Владимир Николаевич Топоров, являл собою в изрядной мере и Сергей Сергеевич.
Однажды Хоружий написал о том, что не прочесть в молодые годы «Столп и утверждение Истины» Флоренского — потеря для всех, кто вырос в русской культуре. Как известно, книга эта открывается цитатой из диалога «О душе и воскресении» св. Григория Нисского: «…и познание станет любовью». Нельзя не подчеркнуть в этой связи памятное всем: всякому, кто заглядывал в эти глаза и кому удавалось улучить и воспринять направленный на тебя ответный теплый и согревающий взгляд, ясно чувствовалось и виделось, что усопший жил любовью — к предмету, к Богу, к окружающим людям, к тому общему делу, каковым являлась для него и круга его единомышленников синергийная антропология в ее разного рода ризоматически переплетенных философских и культурных контекстах. Развивая последние лет 40–50 (а быть может, и больше) это направление, усопший буквально воочию воспринял тот фонарь и тот огонь живой свечи, который в дни его молодости несли в Москве внучки Густава Густавовича Шпета, люди из окружения Алексея Федоровича Лосева… И мировоззрение, выросшее из этой любви и отразившее в себе ее дивный пламень, могло быть только цельным: вселенская отзывчивость при вселенской культуре, верность русским, византийским и исихастским традициям при погружении в общемировые — это было одной из граней кредо Сергея Сергеевича.
В последующие дни, месяцы и годы будут еще неоднократно вспоминаться его замечательные труды: «Диптих безмолвия», «Аналитический словарь исихастской антропологии», «Исихазм как пространство философии», «Феноменология аскезы», «О старом и новом», двухтомные «Исследования по исихастской традиции», «Социум и синергия: колонизация интерфейса» и многие другие. Они уже вызвали и вызовут еще массу откликов, обсуждений и споров, оказываясь той плодородной почвой, которая постепенно перерабатывает общую массу русской философии в некое логосостроительное делание, возвращающееся к истокам и, в конечном итоге, к предельному Истоку и пробуждающее к жизни умы и сердца, сознание и совесть идущих за основателем. Это не какая-либо школа в институционализированном виде, и еще меньше это похоже на академически формализованный институт или на некий внешне благообразный истеблишмент, но это та духовная закваска, которая не оскудеет в сердцах, душах и умах многих думающих, мыслящих и чувствующих людей как в нашем Отечестве, так и за его пределами. Чрезмерно же краткое упоминание исключительно обширной и многосторонней печатной продукции Сергея Сергеевича, выходившей, помимо русского, на английском, немецком, французском, новогреческом, польском, китайском языках, вызвано было желанием говорить в первую очередь о том, чему писавший сам был непосредственным свидетелем и что отлилось — в результате долгих бесед и прогулок, переписки и обсуждений (в Москве, Санкт-Петербурге, Белграде, Меркушино™ на Родосе™) — в совершенно особый подвид «сердечного дискурса», имевший исключительное значение для становления личности и субъектности.
В последние месяцы Сергей Сергеевич активно интересовался научными проектами — своими и окружающих, размышлял и вопрошал о том, как можно будет настроить общую философскую жизнь после победы над инфекцией…
Вновь и вновь оказывается актуальным мудрое увещевание поэта: «…не говори с тоской: „Их нет“, но с благодарностию — „Были“». Впрочем, прошедшее время здесь неуместно, ибо такие люди — как маяки, чей свет не проходит бесследно. Светя и согревая нас сегодняшних, связывая разные концы времен и приводя их к Вечности, они продолжают свою миссию и по отношению к грядущим поколениям. А значит, наше и их будущее — не лишено надежды.