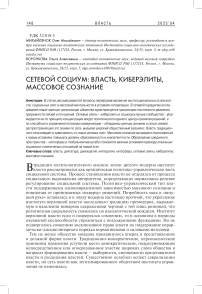Сетевой социум: власть, киберэлиты, массовое сознание
Автор: Михайлёнок О.М., Воронкова О.А.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 4 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы переформатирования институциональных основ власти, социальных элит и массовой ментальности в условиях сетевизации. В сетевой парадигме исследований новый принцип организации общества характеризуется процессами постоянного движения, прерывности связей и отношений. Сетевые элиты – киберэлиты и социокультурные сообщества – формируются не по принципу концентрации вокруг политического единого центра принятия решений, а по способности управления потоками коммуникации – обладания ценным знанием и сетью связей, распространяющих это знание по сети, вызывая широкий общественный резонанс. Власть традиционного типа впадает в зависимость от новых сетевых элит. Массовое сознание вынуждено подтягиваться к новым условиям, повышать уровень образованности и компетентности. Образование срединного пространства – нетосферы в глобальном масштабе становится важным условием перехода локальных социально-политических отношений на новый этап.
Власть, диктатура, демократия, нетократия, нетосфера, сетевые элиты, киберэлиты, массовое сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/170211065
IDR: 170211065 | УДК: 32.019.5
Текст научной статьи Сетевой социум: власть, киберэлиты, массовое сознание
В традиции политологического анализа эпохи зрелого модерна институт власти рассматривался как органическая политико-управленческая часть социальной системы. Процесс становления власти не отделялся от процесса социального выдвижения авторитетов, определяющих нормативно-ролевое регулирование социальной системы. Политико-управленческий тип власти поддерживался однонаправленной зависимостью массового сознания и поведения от принимаемых «наверху» решений. Потребность масс в «ведущей руке» оставалась и в эпоху модерна настолько прочной, что укрепление института верховной власти наследовало традицию премодерна, выражаемую в наделении монархов сакральными чертами с той лишь разницей, что религиозная сакральность сменилась на идеологический вождизм. Институт верховной власти если и подвергался сомнению, то в основном в периоды очевидной неспособности справляться с возложенными функциями. Но не подвергалось сомнению эксклюзивное право власти на поддержание иерар-хически-дисциплинарного порядка нормативными и силовыми методами.
Тем не менее общество модерна продвинулось вперед в представлениях о должной форме власти. Традиционно-монархические, персоналистские принципы правления уступили место демократическим, подразумевающим непосредственное или опосредованное участие широких слоев общества в вопросах формирования власти – выборности, сменяемости представителей власти и разделения властей. Существенно ослаблен аспект сакрализации власти, но суть власти как легитимированного обществом института управления не изменилась.
Однако, делая упор на нормативно-ролевом регулировании как основе социальной интеграции, теоретики эпохи модерна вполне допускали трансформации демократий в диктатуры и даже настаивали на этом. Достаточно вспомнить марксистско-ленинский тезис: демократия – это диктатура пролетариата. Другие серьезно недооценивали возможности такой трансформации: нацистская власть в Германии была избрана демократическим путем. Демократии достаточно быстро переходят в диктатуры при формальных процедурах, но фактической неготовности масс к практикам самоуправления. При неразвитости общественных институций учета различных точек зрения в вопросах управления, слабой договороспособности в ситуациях разногласий и конфликтов не нормативный консенсус, а принуждение и страх перед силой остаются главными побудительными мотивами социального действия. Для действенной демократизации общественных отношений необходимы значимые изменения в традиционном, вековом, привычном укладе жизни и ментальных установках, которые не могут произойти автоматически при формальном провозглашении элитами новых принципов управления. Не происходит автоматически и сглаживание неравенства позиций обладающих властью и обделенных властью в случаях столкновения интересов.
Процесс реализации власти и в эпоху расцвета демократий неизбежно предполагает формирование особых доминантных структур, берущих на себя право и ответственность за обеспечение общества объединяющими его смыслами, но, кроме того, и исключительную привилегию на наделение определенных смыслов особой значимостью и навязывание этой значимости остальному обществу. Однако призванные выполнять общественную функцию институты власти поддерживаются и воспроизводятся специфическими группами – носителями своего специфического субъектного интереса, через призму которого преломляются социальные задачи и принимаются решения по их выполнению. Продуцируемый таким преломленным образом смысловой контекст и создаваемая в рамках этих смыслов особая политико-элитарная реальность достигают достаточной степени независимости от своей социальной основы. Эта реальность автономизируется и постепенно отчуждается от остального социального мира, в котором устанавливаются свои смысловые контексты, отражающие интересы различных социальных групп.
Усиливающаяся автономия доминантных структур в обществе модерна обостряет проблему их легитимности. М. Вебер в своей концепции легитимного авторитета обращал внимание на зыбкость связи между верой общества в легитимность существующего социального порядка и его фактической обоснованностью. М. Вебер подвергнул сомнению очевидность рациональных основ власти [Вебер 1990]. Исторический опыт показал практическое отсутствие примеров добровольного самоограничения деятельности доминантных структур рациональными рамками. Тем не менее каждая добившаяся власти социальная группа стремится выработать у населения веру в общественную пользу ее намерений, истинность деклараций и практическую необходимость предпринимаемых действий.
Если доминирующим структурам не удается создать убедительную смысловую основу для согласования множественных и разнообразных социальных интересов, то возникает необходимость выработки дополнительных мер поддержания социальной целостности. В этом случае процесс поддержки социальной интеграции переходит главным образом в формальнориторическую сферу, где активно продуцируются символические суррогаты смыслов. Так, за риторикой общественной необходимости может скрываться реализация частного интереса за государственный счет, за защитой интересов государственной безопасности – введение чрезмерного контроля над поведением граждан и т.д. Символическая сфера формально-риторической поддержки социальной интеграции все дальше отдаляет политикоэлитарную реальность от сферы социальной практики и достигает некоей критической точки, за которой ослабляется доверие общества правящим кругам, что ведет к глубокому кризису легитимации. Проблема легитимации политических режимов, исторически отживших и не соответствующих текущим запросам общества, особенно обостряется в условиях неразвитости или полного отсутствия реальных механизмов обновления власти. В социальных системах, где нет политической традиции дискурсивного принятия решений, т.е. такого, где учитываются мнения различных политических и социальных сторон, проблема легитимации власти встает со стабильной периодичностью.
Вопрос власти в парадигме общества постмодерна, эпоху глобальных перемен, обусловленных технологическим прорывом 60-х гг. XX в., рассматривался несколько иначе. Политический дискурс постмодерна переместил понимание природы власти из структурно-функциональной в коммуникативно-семиотическую плоскость. Власть в изменившуюся эпоху начала утрачивать свое структурно-институциональное основание [Шляков 2016]. Заметно ускорились процессы деперсонификации, десакрализации власти и деиерархизации социально-политических отношений. Классики постмодерна (Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Бодрийяр) отвергли право власти на диктат смыслов, навязывание единой линии интерпретации событий обществу, допуская возможность множества трактовок. Концепция власти подверглась серьезной деконструкции. Ж. Деррида отрицает однозначность, стабильность и универсальность смыслов и символов, считая, что они существуют только в системе взаимосвязей их трактовок. Деконструкция у Ж. Деррида – это выявление противоречий между смыслом, содержащимся в тексте, и его представлением, интерпретацией, между логикой события и риторикой [Деррида 2000].
М. Фуко рассматривал сам концепт власти гораздо шире, чем классики модерна. Власть есть не столько политико-государственная категория, сколько социальная. Власть пронизывает все социальное пространство, все социально-групповые взаимоотношения – экономические, образовательные, культурные, семейные и пр. В социальном пространстве главную роль играет фактор распределения знания. Доминантные структуры претендуют на монополию в определении области знания и истины, но в реальности власть не принадлежит какой-либо одной группе, претендующей на доминирование. Социальное знание возникает на пересечении различных презентаций истины, т.е. идеологий в широком смысле – разных комплексов идей. Социальная реальность не существует вне дискурсивного процесса – борьбы комплексов идей. Властные отношения выражаются во множестве очагов влияния, давления и насилия. «Комплексы идей», которыми оперирует доминирующая группа, конкурируют с «комплексами идей» оппозиционных групп. В этих условиях усиливается роль законов как регуляторов отношений власти [Фуко 1996].
Ж. Бодрийяр идет дальше М. Фуко. Власть уже не может быть понята ни в терминах насилия, ни в терминах закона. Она не опирается на право на тотальный контроль, а функционирует как полиморфная техника управления жизнью в форме советов и рекомендаций специалистов. «Макрополитика» переходит в разряд «микрополитики». Ж. Бодрийяр говорит о «самоисто-щении» власти в реальности «общества потребления», о превращении власти в иллюзию, симулякр, фантом сознания – у нее нет реального объекта, готового к безусловному подчинению, и поэтому во власти не остается самой власти [Бодрийяр 2000]. Сама по себе власть все еще мыслит себя объективной реальностью, но исторически происходит процесс, предсказанный еще в теории марксизма о конце государства как органа насилия при выполнении миссии освобождения пролетариата. Таким образом, наступление эпохи постмодерна как следствие технологического прогресса и повышения материального и духовного уровня в развитии социума дало основание говорить о начале конца власти.
Но начало конца власти еще не означает конец ее истории, которая, как давно замечено, движется по спирали. Периодически происходит возврат к состояниям прошлого. Каждый исторический виток проходит через кризисные состояния, обусловленные сложностью адаптации общества к быстрым технологическим изменениям – социальной аномией. Обострение проявляется в глубоком кризисе рациональности на легитимационном, этическом и мотивационном уровнях. Легитимационный кризис проявляется в значимом ослаблении и даже в полном падении доверия действующей власти и исходящим от нее источникам информации. Этический кризис затрагивает сферу крушения ответственности за не вполне адекватные и даже совсем неадекватные социальные и политические действия. Соответственно, кризис мотивации обнаруживается в социальном равнодушии, а в более острой форме – апатии и депрессии.
Кризисные пики исторического развития приводят к ностальгии по докризисным временам, которые идеализируются массовым сознанием. Забываются недостатки и проблемы ушедшей эпохи, воспевается прежняя стабильность, обостряются воспоминания старшего поколения о временах молодости и надеждах на лучшее будущее. Вместе с этим возобновляются и попытки решения новых проблем теми же способами, которые были использованы в историческом прошлом. Всплывают вытесненные в подсознание установки и привычки. Общество «наступает на те же грабли», не понимая, что в измененной реальности старые ассоциации, методы, стратегии уже не могут эффективно работать. Тем не менее эволюционный процесс все же направляет историю вперед и вверх, а не назад и вниз.
Как будет функционировать сетевая глобальная сфера в дальнейшем? Какое название лучше всего подходит для сетевого общества? Предлагаются различные варианты названий: нетократия, киберократия и пр. Но на данный момент это не столь важные вопросы. Важно то, что господство интерактивности в качестве главного атрибута информационного обмена приведет к полной смене самих основ установившегося порядка, к изменению парадигмы существования, что, в свою очередь, приведет к изменению механизмов распределения власти в обществе [Трансформация … 2023]. В дискуссиях на эту тему важно быть способными выйти за рамки логики, присущей старой парадигме [Зодерквист, Бард 2005: 5]. И сейчас активно вырабатываются новые методологические подходы к исследованию сетевых процессов. На первый план выступили идеи становления ризомной цифро-сетевой среды и социально-сетевой самоорганизации.
Развивая идеи Ж. Делеза и М. Фуко, авторы новой парадигмы нетокра-тии Я. Зодерквист и А. Бард попытались разобраться в истоках и сущно- сти сетевого социума. М. Фуко считал, что место демократии, при которой одни социальные группы, будь то меньшинство или большинство, навязывают одну точку зрения всему обществу, займет плюрократия как социальная модель и плюрархия вместо иерархии как государственного устройства. Я. Зодерквист и А. Бард описывают будущее нетократии в парадигме постоянного сетевого движения, прерывности связей и положений. Правила сетевого общества невозможно будет формализовать на долгое время, нормы сетевого этикета не могут быть строго зафиксированы раз и навсегда, законы в их неизменной форме будут утрачивать свою роль. Решающим фактором, управляющим положением индивидуума в сетевом обществе, будет способность вызывать интерес, абсорбировать и сортировать важную для общества информацию. Власть в таких условиях будет все труднее локализовать и еще труднее удержать и увеличить, что послужит ускорителем обновления сетевых форм власти и тормозящим фактором для процесса деградации политической системы, неизбежной при автократии и диктатуре.
По определению М. Кастельса, власть в сетевом обществе – это коммуникационная власть [Кастельс 2016: 72.] Однако это определение нуждается в политологическом раскрытии и конкретизации.
Коммуникационный тип власти с ускорением расщепляет монолитность все еще существующей вертикальной формы власти на, как минимум, два ее состояния. Внешняя власть в официально-публичной форме, обращенной к массовому сознанию, до сих пор претендует на определение смысловых значимостей, управление массовым поведением средствами прямой пропаганды, принуждений, ограничений, контроля, насилия. Однако сама власть традиционного типа уже впадает в зависимость от других групп, укрепляющихся в цифровом пространстве. Здесь формируется внутренняя власть, которая принадлежит киберэлитам, владеющим алгоритмами технологической организации коммуникационных процессов, и социокультурным сообществам, способным оперировать информационными и коммуникативными потоками – привлекать внимание, вызывать общественный резонанс. Формирование сетевых элит приобретает особый характер. Их статус определяется не критериями накопленного капитала и близостью к верхушке еще действующей властной иерархии, а обладанием технологическими и коммуникативными ресурсами.
Однако ни одной из групп сетевой элиты не удастся монополизировать возможности управления социальными процессами. Интернет, в отличие от СМИ как формы традиционно вертикальной власти, – это многоузловая горизонтальная сеть коммуникаций, создающая основу для становления новых норм социальной жизни. Сети перерабатывают культурные материалы, которые конструируются в разнородных дискурсивных сферах. Социальная сеть глобально запускает массовую рефлексию по поводу значимых для жизни событий – социальных, политических, физических, культурных и пр. Эта рефлексия имеет своим следствием продуцирование новых пониманий и интерпретаций, оказывающих непосредственное или опосредованное влияние на обновление социетальной среды. Культурное разнообразие мира актуализирует потребность создания новой глобальной сетевой цивилизации, образования нетосферы как срединного пространства, характеризующегося, с одной стороны, процессами смыслоопределения, а с другой – взаимозависимостью образующихся социальных кластеров в глобальном масштабе, что становится важным условием перехода локальных социально-политических отношений на новый этап эволюции.
Современное сетевое общество, непрерывно включающееся в процесс глобальной коммуникации, переосмысливает официальные презентации происходящих событий и формирует свои представления о новой конфигурации социального устройства. Соответственно, развитие социальных сетей влечет за собой переход к политической и управленческой системе нового типа, где приоритетными становятся не процессы борьбы за монопольную власть и ее удержание любыми средствами, а создание координационных институтов генерирования и согласования идей по устройству комфортных жизненных пространств, потребность в которых усиливается в сознании социума. Быстро развивающийся глобальный тренд на расширение горизонтов мировоззрений за счет разновекторного информационного обмена дает шанс на становление социально и политически ответственного осознания необходимости решать управленческие проблемы путем поиска консенсуса, укрепления дипломатических принципов взаимоотношений.
Очевидно, что социально-структурные теории эпохи модерна становятся достоянием прошлого. Тем не менее еще рано переводить традиционную вертикально-иерархическую форму власти в разряд симулякров – пустых символических конструкций. Цифро-сетевые технологии и практики, ими определяемые, на данном этапе вступают в конфликт с традиционными институтами и культурными формами. И через этот конфликт происходит обновление способов мышления и принципов социально-политического взаимодействия.