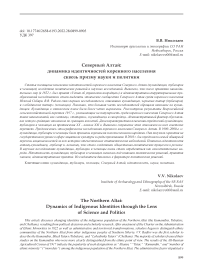Северный Алтай: динамика идентичностей коренного населения сквозь призму науки и политики
Автор: Николаев В.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изменению идентичностей коренного населения Северного Алтая (кумандинцев, тубаларов и челканцев) вследствие политических решений и научных исследований. Выявлено, что после принятия законодательных мер (в 1822 г. был принят «Устав об управлении инородцев») и административно-территориальных преобразований исследователи стали выделять этнические сообщества Северного Алтая среди коренного населения Южной Сибири. В.В. Радлов стал первым исследователем, описавшим кумандинцев, черневых татар (тубаларов) и «лебединских татар» (челканцев). Показано, что большая часть исследователей обращали внимание на кумандинцев. Кумандинцы в этническом плане были более четко выражены. Рассмотрены результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г., указывающие на популярность среди коренного населения Северного Алтая таких наименований, как «алтаец», «татарин», «кумандинец» и «инородец». Административный фактор обуславливал четкую градацию этнонимов по границам волостей. Дана характеристика изменения определений кумандинцев, тубаларов и челканцев на протяжении ХХ - начала XXI в. Выявлено сохранение этих этнонимов во всех советских переписях. Продолжались этнографические исследования коренного населения Северного Алтая. В 1990-2000-е гг. кумандинцы, тубалары и челканцы были признаны коренными малочисленными народами. Они получили гарантии на государственном уровне в сфере защиты их культуры и среды проживания. В 2010 г. был предложен самый обширный перечень национальностей за всю историю отечественных статистических наблюдений. Появились идентичности алтаец-кумандинец, -тубалар и -челканец, что стало следствием общественно-политических процессов в регионе. В научных исследованиях кумандинцы, тубалары и челканцы вновь стали определяться как самостоятельные народы. Идентичность кумандинцев, тубаларов и челканцев менялась под влиянием политических решений, принятия законов, административных практик. Исследователи двигались в фарватере политических решений.
Кумандинцы, тубалары, челканцы, северный алтай, идентичность, наука, политика
Короткий адрес: https://sciup.org/145146486
IDR: 145146486 | УДК: 397 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0899-0905
Текст научной статьи Северный Алтай: динамика идентичностей коренного населения сквозь призму науки и политики
Кумандинцы, тубалары и челканцы – небольшие по численности коренные народы, традиционная территория расселения которых охватывает Республику Алтай, Алтайский край и Кемеровскую обл. В настоящее время на законодательном уровне за ними закреплен статус коренных малочисленных народов. В работе будет рассмотрена динамичность североалтайских идентичностей вследствие политических и академических коллизий.
Идентичность – это осознание человеком своей принадлежности к какой-либо группе. Для данной работы важно замечание Л.М. Дробиже-вой «об этничности как о гибком разноуровневом и зависимом от социального, политического контекста явлении» [Дробижева, 2018, с. 81–82]. В 1610–1620-х гг. жители Северного Алтая были объясачены представителями российской администрации. Длительное время они находились в положении двоеданцев. Кумандинские татары до начала XVIII в., а черневые до середины XVIII в. имели статус троеданцев. В середине XVIII в., после разгрома Джунгарского ханства, население Северного Алтая было включено в состав России [Потапов, 1953, с. 118–119]. Встраивание новых этнических сообществ в российскую социально-политическую реальность было обеспечено принятием в 1822 г. «Устава об управлении инородцев», разработанного М.М. Сперанским. Длинный список преференций, сопряженный с социальным таксоном «инородец», способствовал широкому бытованию данного квазиэтнонима и его закреплению в самосознании коренного населения Северного Алтая. Введение в 1824 г. поразрядной системы М.М. Сперанского, согласно которой предполагалось, с одной стороны, постепенное нивелирование со словных границ, а с другой, выделение этнических сообществ Сибири. Так, права «оседлых инородцев» и крестьянского сословия были приравнены (кроме рекрутской повинности), а кочевые составили особую сословную группу [Сатлаев, 1994, с. 5; Шерстова, 2005, с. 131].
Большая часть коренного населения региона была определена как «кочевые инородцы» с родовым управлением – инородной управой. «Оседлыми инородцами» было маркировано то население, 900
которо е в значительной степени испытало ассимиляционное и аккультурационное влияние пришлого населения. Именно среди подвергшихся ассимиляции «быстрянцев» и других сообществ квазиэтноним «инородец» получил широкое распространение и отчасти сохранялся вплоть до середины ХХ в. В похозяйственных книгах некоторых сельских советов в границах предгорий Северного Алтая (например, Сузопский с/с) вплоть до 1940-х гг. в графе национальность часто указывалось – «инородец». Неудивительно, что после принятия законодательных мер и административнотерриториальных преобразований, исследователи стали выделять этнические сообщества Северного Алтая среди коренного населения Южной Сибири. В.В. Радлов стал первым исследователем, описавшим кумандинцев, черневых татар (тубаларов) и «лебединских татар» (челканцев) [Радлов, 1989, С. 92–93]. В.И. Вербицкий выделял «северных алтайцев», противопоставленных в этнокультурном, лингвистическом и антропологическом аспектах южным алтайцам [Вербицкий, 1993, с. 21]. В первой половине XIX в. исследователи испытывали трудности с этнической характеристикой коренного населения, напр., Г.П. Гельмерсен, назвавший их телеутами [Гельмерсен, 1840].
В начале ХХ в. количество работ в первую очередь о кумандинцах заметно увеличилось. Были изданы статьи Н.Б. Шерра [Шерр, 1903] и Н. Богатырева [Богатырев, 1908], специально посвященные кумандинцам. Столь пристальный интерес к данному сообществу, с одной стороны, был связан с их территориальной близостью к г. Бийску и сравнительно большей доступностью их поселений. С другой стороны, кумандинцы в этническом плане были более четко выражены. Неслучайно по итогам статистического обследования Алтая и сопредельных территорий, проведенного на рубеже XIX–ХХ вв. С.П. Швецовым, только один из томов был посвящен конкретному этническому сообществу, этноним которого был вынесен в название работы, – кумандин-цам [Горный Алтай…, 1903]. Ряд других томов был посвящен «черневым инородцам Кузнецкого уезда», «кочевникам Бийского уезда», «оседлым инородцам», «кочевникам Горного Алтая».
В ходе администрирования и землеустройства на Алтае в начале ХХ в., в частности, 28 кумандин-ских аилов рассматривались как единая общность. Коренным жителям с их согласия был выделен общий надел [Николаев, 2012, с. 31]. В то же время в ходе административно-территориальных и иных изменений 1912–1914 гг. коренное население фактически оказалось на одном правовом и экономическом уровне с кре стьянами. Из названия административных образований был убран этнический подтекст. Исключением оказалась лишь Нижне-Ку-мандинская волость [Сатлаев, 1974, с. 29; Шерсто-ва, 2005, с. 230–231, 239–243].
Таким образом, административные практики XIX в. вкупе с законодательными мероприятиями («Устав об управлении инородцев»), направленными на этносоциальное конструирование нового инородческого сословия, обуславливали дробление, в том числе сопровождавшееся включением маргинальных групп в состав крестьянских волостей, этнической карты Алтая и во многом способствовали консолидации этнических сообществ. Администрирование начала ХХ в., землеустройство и сопутствующая ему крестьянская колонизация, а также миссионерские практики (открытие Алтайской духовной миссии в 1828 г.) были нацелены, напротив, на размежевание коренного населения, его ассимиляцию и аккультурацию и последующее их включение в крестьянское сословие. В реальности подобные меры имели неоднозначные последствия, активируя этническое противопоставление как в отношении пришлого населения, так и южноалтайского. Отмеченные этнополитические, этносоциальные и этнокультурные процессы приводили к трансформации структуры идентичностей коренного населения Северного Алтая. В последней трети XIX в. исследователи отчетливо стали выделять этнические сообщества региона. В то же время их идентичность еще была неустойчивой. Под влиянием законодательных мероприятий среди автохтонов получил широкое распространение квазиэтноним «инородец». Параллельно в XIX в. происходило закрепление самоназваний: тадар-кижи, тадарлар (кумандинцы); йыш-кижи (тубалары); куу-кижи (челканцы).
В материалах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г., в ходе которой со слов главы домохозяйства фиксировалось самоопределение, отразился ход этнических процессов. Сео-ковые наименования и экзоэтнонимы, в том числе закрепленные в административных названиях в прошлые столетия, практически не упоминались респондентами. Наиболее популярными среди аборигенов Северного Алтая были наименования «алтаец» (841 чел. или 37,7 %), «татарин» (691 чел. или
31 %), «кумандинец» (305 чел. или 13,7 %) и «инородец» (116 чел. или 5,2 %). На территории расселения кумандинцев сравнительно широко были представлены этноним «кумандинец», «татарин», «алтаец», «инородец» и «инородец-татарин». В материалах переписи были зафиксированы самоназвания «чалган» и «чалканец», «шелканский инородец», представленные в рамках Лебедской волости. Среди тубаларов были распространены этнонимы «алтаец» и «калмык» [Николаев, 2018, с. 82–96]. Аналогичные этнические наименования были широко представлены в Центральном и Южном Алтае. Стоит отметить отсутствие этнонима «туба-лар» в материалах переписи. Административный фактор обуславливал четкую градацию этнонимов по границам волостей. Вследствие комплекса причин, способствовавших ассимиляции и аккультурации, происходило размывание этнического самосознания, выражавшееся в том числе в причислении себя к крестьянскому сословию и т.д.
В 1920-е гг. началось формирование советской модели патернализма. Продолжились практики этнополитического и этнотерриториального районирования, началась «коренизация» управленческого аппарата, а также культурно-просветительских и образовательных структур. Образование Каракорумского уезда 30 декабря 1918 г., в последующем переименованного в Горно-Алтайский уезд, а 1 июня 1922 г. преобразованного в Ойротскую автономию (совр. Республика Алтай), определило направленность этнических процессов в регионе. В состав Ойротской автономии были включены территории традиционного проживания тубаларов, челканцев и, частично, кумандинцев. В то же время большинство кумандинцев оказались за пределами нового административного образования, наименование которого на протяжении ХХ в. неоднократно менялось, в то время как его границы оставались неизменны. В ходе подготовки Всесоюзной переписи населения 1926 г. были определены следующие наименования: в отношении кумандинцев, в составе которых предлагалось учитывать чел-канцев: «кумандинцы», «кукиши», «лебединцы», а применительно к тубаларам: «черневые татары», «тубакииш», «тубалар» [Программы и пособия…, 1927, с. 4].
В 1930-е гг. началось активное изучение культуры коренных народов Алтая. Появились публикации Н.П. Дыренковой [Дыренкова, 1936; и др.], в том числе посвященные кумандинскому фольклору, а также Л.П. Потапова [Потапов, 1937; и др.]. В одной из работ Н.П. Дыренковой [1936, с. 70] ку-мандинцы были обозначены как «этнографическая группа» наряду с телеутами. Схожую позицию занимал Л.П. Потапов [1937, с. 3], выделяя в одной из своих первых работ в составе алтайцев «четыре племенные группы»: «тубаларов, челканцев, ку-мандинцев и ойротов». В одной из последующих своих работ Л.П. Потапов [1969, с. 14] резюмировал, что «под влиянием новых общественно-экономических процессов ныне исчезло практически деление алтайцев на родоплеменные или территориальные группы».
Утверждение Л.П. Потапова скорее соответствовало веяниям времени, чем этнополитической реальности в регионе. Несмотря на включение ку-мандинцев, тубаларов и челканцев в состав алтайской социалистической народности, этнонимы продолжали сохраняться в научном и общественно-политическом дискурсе. В большей степени это касалось кумандинцев, которые были отделены от алтайцев административными границами. Так, в паспортах кумандинцев Алтайского края в графе национальность продолжали указывать «кумандинец» [Николаев, 2012, с. 90–91]. Сохранялось обособленное проживание тубаларов и особенно челканцев, значительная часть которых до середины ХХ в. проживала в бассейне р. Лебедь. Присутствие «родоплеменных» этнонимов во всех советских переписях также указывает на их устойчивость в этнической памяти автохтонов. В словарях национальностей СССР, составлявшихся перед проведением переписи, продолжали бытовать этнонимы «кумандинцы», «тубалары», «челканцы» или их вариации.
Более того, во второй половине ХХ в. появляются публикации о кумандинцах. В 1953 г. выходит в свет публикация первого этнографа-кумандинца П.И. Каралькина о культуре своих соплеменников, который в отличие от остальных исследователей уклонился от отождествления родного этнического сообщества с алтайцами, ограничившись формулировками «так называемые северные алтайцы» и «малая народность» [Каралькин, 1953, с. 29, 35]. Важной вехой в изучении традиционной культуры кумандинцев стало издание монографии этно-графа-кумандинца Ф.А. Сатлаева «Кумандинцы (Историко-этнографический очерк XIX – первой четверти XX в.)» [Сатлаев, 1974]. Собственно сам Л.П. Потапов [Потапов, 1968; 1972; 1974] посвятил ряд работ теме этногенеза кумандинцев, тубаларов и челканцев.
В конце 1980-х гг. этнополитическая ситуация в регионе и в целом в стране резко изменилась. Во многих регионах в это время формируется общественное движение, призванное защищать интересы небольших этнических сообществ и сохранять их культуру и язык. В частности, на Алтае одним из первых было организовано общество «Эне Тил», созданное в 1989–1990 гг. для реше- ния вопросов, связанных с этнокультурным развитием коренного населения региона. Определения кумандинцев, тубаларов и челканцев в редких научных публикациях 1990-х гг. сдержанные, аналогичные тем, что были предложены П.И. Каральки-ным в середине столетия: «в понятие “северные алтайцы”, наряду с челканцами и тубаларами, обычно включают и кумандинцев» [Славнин, 1990, с. 132], «челканцы – небольшая тюркоязычная сообщность, которую в научной литературе в советское время было принято считать одной из этнографических групп северных алтайцев, наряду с кумандинцами и тубаларами» [Функ, 2000, с. 3]. Как видно из состава «северных алтайцев» исследователи исключили шорцев, а их отношение к алтайцам не упоминается. В то же время в работах целого ряда исследователей сохраняется историографическая традиция прошлых лет, согласно которой алтайцы представляют собой единый народ [Екеева, 2003; и др.]. Как отмечала Н.М. Еке-ева [2003, с. 238–239], «негативно сказывается на единстве и национальных отношениях разделение алтайского этноса на коренные малочисленные народы», а «алтайцы северных районов: ку-мандинцы, тубалары, чалканцы» стремятся быть включенными в «реестр малочисленных народов России» в надежде, что «их проблемы будут разрешены за счет дополнительного финансирования из федерального и местного бюджетов, разработки и принятия специальных программ развития».
В то время, как в научных публикациях сохранялась риторика прошлых десятилетий, в 1990– 2000-е гг. происходили значительные законодательные преобразования, связанные с признанием коренных малочисленных народов на государственном уровне и защите их культуры и среды проживания: Постановление Совета национальностей Верховного Совета Российской Федерации за № 4538-1 от 24.02.1993 г., согласно которому ку-мандинцы были отнесены к малочисленным народам Севера, Постановление Правительства РФ от 24.03.2000 г. «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» и т.д.
В рамках подготовки Всероссийской переписи населения 2002 г. набор этнонимов был существенно расширен. По итогам статистиче ского обследования были зафиксированы кумандинцы (3 072 чел.), а также кубанды (3 чел.), куманды (25 чел.), орё куманды (6 чел.), тадары (6 чел.), тадар-кижи (6 чел.), тюбере куманды (3 чел.), а также туба (105 чел.) и тубалары (1 460 чел.), чалканцы (259 чел.) и челканцы (596 чел.) [Перечень…, 2002]. В 2010 г. был предложен самый обширный перечень национальностей за всю историю отечественных статистических наблюдений.
Актуальными для автохтонов Северного Алтая оказались лишь кумандинцы, алтайцы-куман-динцы, карга, куманды, тадар, шабат, тубалары, алтай-туба, алтайцы-тубалары, туба, челканцы, ак паш, аксак, алтайцы-чалканцы, алтайцы-чел-канцы, алыйан, бардыйак, кара тювен, кертен, кѐрюкейлер, колчач, коргунак, кызыл кѐс, кюзен с языком челканским, ньондукой, тьеткыр, чал-канду, чалканцы [Национальный состав…, 2012]. На смену экзоэтнонимам пришли сеоковые наименования. Появление идентичностей алтаец-ку-мандинец, -тубалар и -челканец стало следствием общественно-политических процессов в регионе, направленных на возвращение в лоно «единого алтайского народа» кумандинцев, тубаларов и чел-канцев на правах этнотерриториальных и этноло-кальных групп (напр.: [Блюм, Филиппова, 2003]).
Вслед за изменением политических трендов формулировки в отношении коренного населения Северного Алтая были также переосмыслены: «малочисленная этническая группа Сибири» [Бельги-баев, 2004, с. 5]; «коренной тюркский этнос Северного Алтая» [Назаров, 2013, с. 3]. Неоднозначно представлены кумандинцы, тубалары и челканцы в томе «Тюркские народы Сибири» академической серии «Народы и культуры». Кумандинцы выделены в структуре тома как отдельный народ, в отличие от тубаларов и челканцев, расположенных в разделе «Алтайцы». Кумандинцам дана четкая характеристика: «тюркский народ», как и тубала-рам: «малочисленный тюркский народ», челкан-цы – «группа», «современное этническое развитие челканцев тесно связано с общими процессами самоопределения малочисленных народов России» [Тюркские народы…, 2006, с. 324, 463, 489, 491]. Параллельно началось осмысление истории и современного положения кумандинского народа собственно кумандинской интеллигенцией [Тукмачев-Соболеков, 2001; и др.].
Кумандинцы, тубалары и челканцы формировались на протяжении нескольких столетий. Их идентично сть неоднократно претерпевала изменения под влиянием тех или иных политических решений, принятия законов, затрагивающих жизнь коренного населения Северного Алтая, и административных практик. Исследователи двигались в фарватере политических решений.
Исследование проведено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0001 «Этнокультурное многообразие и социальные процессы Сибири и Дальнего Востока XVII–XXI в.».
Список литературы Северный Алтай: динамика идентичностей коренного населения сквозь призму науки и политики
- Бельгибаев Е.А. Традиционная материальная культура челканцев бассейна р. Лебедь (вторая половина XIX–XX в.). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. – 300 с.
- Блюм А., Филиппова Е. Республика Алтай, Алтайский край. Перепись на Алтае // Этнография переписи – 2002 г. – М.: Авиаиздат, 2003. – URL: http://valerytishkov.ru/cntnt/nauchnaya_/etnografi y5/etnografi y/perepis200.html (дата обращения: 21.08.2022).
- Богатырев Н. Об ореховом и зверовом промысле кумандинских инородцев Бийского уезда // Алтайский сборник. – Барнаул, 1908. – Т. IX. – С. 1–31.
- Вербицкий В.И. Алтайские инородцы. – Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 1993. – 268 с.
- Гельмерсен Г.П. Телецкое озеро и телеуты Восточного Алтая // Горный журнал. – СПб., 1840. – Ч. 1, кн. 1–2. – С. 40–61, 238–261, 420–446.
- Горный Алтай и его население. Кочевники Бийского уезда. Кумандинцы. – Барнаул: Типо-Литография Главного Управления Алтайского округа, 1903. – Т. 3, вып. 4. Экономические таблицы. – 253 с.
- Дробижева Л.М. Изучение этничности и межнациональных отношений в социологии // Научные исследования в области этничности, межнациональных отношений и истории национальной политики. – М.: ИЭА РАН, 2018. – С. 74–100.
- Дыренкова Н.П. Отражение борьбы материнского и отцовского начала в фольклоре телеутов и кумандинцев // СЭ. – 1936. – № 6. – С. 70–84.
- Екеева Н.М. Современное состояние национальных отношений в Республике Алтай // Этносоциальные процессы в Сибири. Тематический сб. Мат-лы VI междунар. семинара. – Новосибирск, 2003. – С. 236–239.
- Каралькин П.И. Кумандинцы // КСИЭ. – Л., 1953. – Вып. 18. – С. 29–38.
- Национальный состав и владение языками, гражданство: итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. [Электронный ресурс]. – М.: Статистика России, 2012. – URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf (дата обращения: 21.08.2022).
- Назаров И.И. Кумандинцы: традиционное хозяйство и материальная культура. – Барнаул: Алт. гос. ун-т, 2013. – 192 с.
- Николаев В.В. Этнодемографическое развитие коренного населения предгорий Северного Алтая (XIX – начало XXI века). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 312 с.
- Николаев В.В. Этнодемографическая и этносоциальная характеристика коренного населения предгорий Северного Алтая: по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – 143 с.
- Перечень встретившихся в переписных листах вариантов самоопределения населения по вопросу «Ваша национальная принадлежность» Всероссийская перепись населения 2002 года. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/alfavit/alfavit_nac2002.html (дата обращения: 21.08.2022).
- Потапов Л.П. Пережитки родового строя у северных алтайцев (по материалам экспедиции в Ойротию в 1936 г.). – Л.: Изд-во Гос. музея этнографии, 1937. – 18 с.
- Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 444 с.
- Потапов Л.П. Из этнической истории кумандинцев // История, археология и этнография Средней Азии. – М.: Наука, 1968. – С. 316–323.
- Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Историко-этнографический очерк. – Л.: Наука, 1969. – 196 с.
- Потапов Л.П. Тубалары Горного Алтая // Этническая история народов Азии. – М.: Наука, 1972. – С. 52–66.
- Потапов Л.П. Заметки о происхождении челканцевлебединцев // Древняя Сибирь. – Новосибирск: Наука, 1974. – Вып. 4: Бронзовый и железный век Сибири. – С. 304–314.
- Программы и пособия к разработке Всесоюзной переписи населения 1926 года. – М.: Изд-е ЦСУ СССР, 1927. – Вып. 7: Перечень и словарь народностей. – 12 с.
- Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. – М.: Наука, 1989. – 749 с.
- Сатлаев Ф.А. Кумандинцы (Историко-этнографический очерк XIX – первой четверти XX в.). – Горно-Алтайск: Алт. кн. изд., 1974. – 199 с.
- Сатлаев Ф.А. Предисловие // Законодательные акты Российской империи («Устав об инородцах» М.М. Сперанского и земельная политика Российской империи в Сибири в XVII–XX вв.). – Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 1994. – С. 3–6.
- Славнин В.Д. Погребальный обряд кумандинцев // Обряды народов Западной Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1990. – С. 132–146.
- Тукмачев-Соболеков Л.М. У истоков древнего Алтая. – Бийск, 2001. – 195 с.
- Тюркские народы Сибири / Э.Л. Львова, И.И. Назаров, Н.А. Томилов и др. – М., 2006. – 678 с.
- Функ Д.А. Предисловие ответственного редактора // Челканцы в исследованиях и материалах XX века.
- Алтаистические исследования. – М.: Изд-во ИЭА РАН, 2000. – Т.3. – С. 3–6.
- Шерр Н.Б. Из поездки к кумандинцам в 1898 году // Алтайский сборник. – Барнаул: Типо-Литография Главного Управления Алтайского округа, 1903. – Т.V. – С. 81–114.
- Шерстова Л.И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная динамика XVII – начала XX века. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – 312 с.