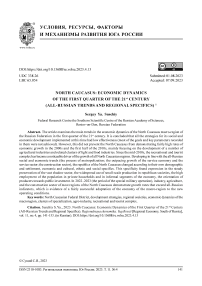Северный Кавказ: экономическая динамика первой четверти XXI в. (общероссийские тренды и региональная специфика)
Автор: Сущий С.Я.
Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu
Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России
Статья в выпуске: 4 т.11, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются основные тренды экономической динамики Северо-Кавказского макрорегиона Российской Федерации в первой четверти XXI века. Делается вывод, что все реализованные в данное время стратегии его социально-экономического развития имели низкую результативность (большинство зафиксированных в них целей и ключевых параметров не были достигнуты) что, однако, не помешало Северному Кавказу демонстрировать в 2000-х - первой половине 2010-х гг. достаточно высокие темпы экономического роста, преимущественно ориентируясь на развитие ряда отраслей сельхозпроизводства и связанные с ними кластеры легкой и пищевой промышленности. С середины 2010-х гг. заметным драйвером роста всех северокавказских регионов становится рекреационно-туристический комплекс. Развиваясь в русле общероссийских социально-экономических трендов (процесс метрополизации; опережающий рост сервисной экономики и сферы услуг, строительного сектора) республики Северного Кавказа преломляли их под собственную демографо-расселенческую, хозяйственно-культурную, этносоциальную специфику, которая находила выражение в устойчивом сохранении обширного теневого сектора, широком распространении в республиканских социумах мелкотоварного производства, высокой занятости населения в личных приусадебных хозяйствах и в неформальных сегментах экономики, ориентации производителей на государственные инвестиции. В 2022-2023 гг. (период проведения специальной военной операции) промышленность, сельское хозяйство, строительный сектор большинства регионов Северного Кавказа демонстрируют темпы роста, превосходящие общероссийские показатели - свидетельство достаточно успешной адаптации экономики макрорегиона к новым условиям функционирования.
Северо-кавказский федеральный округ, стратегии развития, региональные социумы, экономическая динамика макрорегиона, кластеры специализации, агропром, рекреационно-туристический комплекс
Короткий адрес: https://sciup.org/149145162
IDR: 149145162 | УДК: 338.26 | DOI: 10.15688/re.volsu.2023.4.13
Текст научной статьи Северный Кавказ: экономическая динамика первой четверти XXI в. (общероссийские тренды и региональная специфика)
DOI:
Северный Кавказ (далее – СК) наиболее многосоставной макрорегион Российской Федерации. Серьезная специфика отличала его на всем протяжении развития в составе Российского государства. Особенности, обусловленные ландшафтом, агроклиматическими характеристиками, природно-ресурсным и демографическим потенциалом, дополнялись и усиливались этно-конфессиональной и социоментальной спецификой населения, его максимальной полиэтничнос-тью; обширным историко-культурным наследием макрорегиона, существенно отличавшим его как от «русской» России, так и от других национальных территорий государства.
Социально-экономическим аспектам постсоветского СК посвящена обширная исследовательская литература [Дегоев, Ибрагимов, 2006; Дружинин, 2009; Липина, 2008; Липина, 2010; Се- верный Кавказ, 2012; Современное состояние ... , 2010; Сущий, 2013; Тхагапсоев, 2007; Этноэкономика ... , 2004]. Однако в последние годы фиксируется определенное снижение интереса экспертного сообщества к данному проблемному комплексу, что, как представляется, является одним из индикаторов системной стабилизации национального макрорегиона. Но демонстрируемая им устойчивость не исключает сохранения СК серьезной специфики, предполагающей мониторинг основных трендов его современной экономической динамики.
Уточним, что в данном тексте национальный макрорегион будет рассматриваться в территориальных рамках Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО), поскольку Республика Адыгея глубоко интегрирована в социально-экономические циклы Краснодарского края и Южного федерального округа. Напротив, Ставропольский край, с 2010 г. став составной частью СКФО, существенно нарастил линейку и масштабы социально-экономического взаимодействия со всеми республиками своего округа.
Результаты исследования
Разнообразная деятельность имперских властей по социально-экономической и социокультурной интеграции и унификации СК была продолжена в советский период, причем с очевидным успехом, если обратиться к официальным статистическим показателям развития основных сфер экономики и социальной жизнедеятельности региональных социумов в 1960–1980-х гг. [Социальноэкономическое положение ... , 1991]. Значительная часть населения переместилась в города. Активная урбанизация макрорегиона сопровождалась процессом комплексной социокультурной и профессиональной модернизации его населения, а в экономике был создан достаточно обширный индустриальный сектор, ставший основой республиканских «народнохозяйственных» комплексов.
Однако более детальный анализ социальноэкономических реалий северокавказских социумов и в это время обнаруживал множество специфических черт, указывавших на то, что макрорегион не был пассивным объектом советских управленческих практик. Республиканские сообщества являлись активным участником социальноэкономической динамики, адаптируя спускаемые сверху пятилетние планы и стратегии развития к своим социопрофессиональным предпочтениям и сложившимся исторически на СК формам экономической деятельности. Мелкотоварное производство, опиравшееся в том числе на развитую систему личных подсобных хозяйств или масштабное отходничество – сотни тысяч трудовых мигрантов, география которых в 1980-е гг. заключала значительную часть СССР, – только наиболее наглядные примеры этой специфики.
Начало постсоветского периода. Системный кризис СК
Еще больше выросли ее размеры в период постсоветских реформ, когда именно региональные особенности северокавказских обществ существенно увеличили глубину социально-экономического кризиса. Максимально пострадали сегменты экономики, не имевшие серьезных исторических заделов в макрорегионе. В первую очередь к ним относилось большинство отраслей тяжелой индустрии и промышленности в целом. Как результат, масштабы деиндустриализации на СК оказались значительно больше, чем в остальной РФ. Если уровень промышленного производства в стране за 1990–1998 гг. сократился примерно в 2 раза (со 100 % до 48–49 %), то в большинстве республик макрорегиона – в 4–6 раз (табл. 1).
Глубина спада и стремительный характер распада республиканской промышленности и крупнотоварного сельхозпроизводства не были случайностью. Кризис государственности на СК включал куда больше проблемных аспектов, чем в «большой» России, и, может, самое главное – на динамику республиканской экономики легла глубокая проекция этнополитического кризиса макрорегиона во всех его проявлениях, от нарастающего этнорадикализма до комплексной внутренней автономизации и «се-паратизации».
При этом стремительно падающие экономика и социальная сфера со своей стороны дополняли и существенно усиливали общественнополитический кризис СК, способствуя формированию в макрорегионе устойчивой цепочки негативных социально-экономических взаимообуслов-ленностей, которую Х.Г. Тхагапсоев определил как «петлю отчуждения Северного Кавказа от развития» [Тхагапсоев, 2007: 63].
Таблица 1
Динамика промышленного производства регионов СКФО в 1990–2021 гг. (1990 г. взят за 100 %), %
|
Регион |
1998 г. |
2000 г. |
2006 г. |
2010 г. |
2015 г. |
2021 г. |
|
Дагестан |
17 |
30 |
52 |
88 |
132,7 |
202,2 |
|
Ингушетия |
14 |
15 |
13 |
11 |
16 |
21,6 |
|
Кабардино-Балкария |
26 |
53 |
78 |
98 |
139,4 |
101,3 |
|
Карачаево-Черкесия |
22 |
38 |
45 |
58 |
63,3 |
66,8 |
|
Северная Осетия – Алания |
32 |
39 |
42 |
50 |
54,6 |
64,2 |
|
Чеченская Республика |
– |
– |
100 |
65 |
66,5 |
84,8 |
|
Ставропольский край |
33,2 |
44,4 |
54,4 |
62,7 |
81,1 |
99,3 |
Примечание . Рассчитано по: [Регионы России ... , 2006; 2022].
Действительно, фрагментарная и в значительной степени архаичная структура экономики, устаревшая инфраструктура, масштабный теневой сектор, кадровый дефицит, высокие политические и управленческие риски, террористическая активность определяли минимальную инвестиционную привлекательность СК, отсутствие практического интереса даже со стороны российских государственных компаний, не говоря о частном бизнесе. А отсутствие инвестиций еще больше углубляло уже сложившуюся кризисно-стагнационную колею развития, не ограниченную экономикой, но в полной мере охватывавшей социальную сферу и в значительной степени определявшей жизнедеятельность каждого из республиканских обществ.
Но и комплексная стабилизация России на рубеже – в начале 2000-х гг., совпавшая с ликвидацией сепаратистского Ичкерийского режима (основного очага этнополитической и этноконфес-сиональной конфликтности в макрорегионе), далеко не сразу привело к устойчивому восстановительному экономическому росту. К весьма ограниченным результатам приводил и приход в макрорегион значительных средств из федерального бюджета.
Попытки перехода к более продуктивной и эффективной модели развития СК жестко блокировались внутренними ограничениями в каждом звене социально-экономической цепочки (будь то дефицит специалистов, высокая коррупция и клановый характер формирования / функционирования управленческой вертикали, непрозрачные правила ведения бизнеса или отсутствие базовой инфраструктуры). В сохранении существующей «иждивенческой» социально-экономической модели с отчетливым упором на федеральные дотации в полной мере были заинтересованы и местные власти [Дегоев, 2006: 17–18].
Федеральные программы развития макрорегиона
Как результат, масштабные усилия федерального центра, с начала XXI в. реализовавшего на СК несколько комплексных программ социально-экономического развития, давали весьма ограниченные результаты. Достаточно сказать, что ключевые показатели роста, закладываемые в эти стратегические документы, в своем большинстве оказывались выполненным только на 10–20 %. Крайне низким уров- нем эффективности освоения вкладываемых государством средств (около 10 %) отличалась первая из таких стратегий развития макрорегиона – федеральная целевая программа (ФЦП) «Юг России», реализованная в 2001–2006 гг. [Сущий, 2013: 137].
Заметим, что даже при столь низком КПД федеральных инвестиций темпы экономического роста макрорегиона в 2000–2008 гг. впечатляли. Среднегодовой прирост ВРП регионов будущего СКФО в этот период составлял 9,9 %, заметно превосходя общероссийский показатель (7,7 %). Однако данный стремительный рост в значительной степени был обусловлен восстановлением экономики СК после глубокой «просадки» первого постсоветского десятилетия. И поэтому не мог быть принят за основу для разработки плана последующего социально-экономического развития макрорегиона.
Тем не менее разработчики «Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г.», принятой к реализации в начале 2010-х гг., очевидным образом ориентировались на долгосрочную пролонгацию высоких темпов роста ВРВ макрорегиона первой половины – середины 2000-х годов. Как результат, все три представленных в Стратегии 2025 г. сценария развития СКФО (инерционный, базовый, оптимальный) предполагали на всем протяжении реализации программы сохранение сближенных и очень высоких темпов роста ВРП округа (соответственно 5,7 %; 6,7 % и 7,7 %) [Стратегия социально-экономического развития ... , 2010: 79–89].
Несмотря на то что сроки реализации данной Стратегии полностью не вышли, уже можно констатировать, что обозначенные в ней основные цели развития СКФО достигнуты не будут. За 2009–2020 гг. среднегодовой темп ВРП округа составил 2,2 % (причем в 2016–2020 гг. только 0,7 %).
Не менее утопическими изначально являлись и обозначенные в Стратегии параметры роста энергопотребления в округе – важнейшего показателя планируемой социально-экономической динамики СКФО. С 24 млрд кВт.ч в 2008 г. спрос на электроэнергию в округе к 2025 г. согласно трем сценариям должен был подняться до 43, 60 или 70 млрд кВт. ч. В реальности данный показатель практически не изменился (в 2019 г. потребление электроэнергии составило в округе 23,9 млрд кВт. ч), как и энергопроизводящие мощности (см. табл. 2).
В целом слабая аналитическая проработка Стратегии 2025, представляет наглядную иллюстрацию общего кризиса системы социально-экономического планирования в постсоветской России. Даже неоднократно вносимые изменения (последняя коррекция была выполнена в июне 2020 г.) не сделали данный документ более практически реализуемым.
Конечно, резкое снижение темпов экономического роста СКФО во второй половине 2010-х гг. в значительной степени было обусловлено общим торможением российской экономики, обусловленным в том числе комплексом внешних негативных факторов. Но показательно и то, что планируемый во всех трех сценариях Стратегии 2025 опережающий экономический рост округа удалось поддерживать только до 2014 года. Что, впрочем, позволило достигнуть одного из целевых параметров развития округа – роста его доли в общероссийском ВРП с 2,1 % до 2,5 % (планируемый в рамках инерционного сценария к 2025 г. он был достигнут уже в 2013 г.).
Причем вклад отдельных регионов СКФО в данном укреплении экономических позиций округа существенно различался. Почти весь прирост стал результатом динамичного развития Дагестана, доля которого в ВРП России за 2005– 2020 гг. выросла с 0,5 % до 0,81 % (а в ВРП Северо-Кавказского округа с 25,7 % до 31,1 %) (табл. 3). С 6,5 % до 10,5 % в показателе округа выросла доля ВРП Чеченской Республике (в российском показателе с 0,13 до 0,28 %). Регион-лидер СКФО – Ставропольский край, сохраняя свой удельный вес в российской экономике (доля краевого ВРП в структуре российского показателя за 2005–2020 гг. практически не изменилась 0,92 % и 0,93 %), но существенно отступал в округе (с 51,1 % до 35,9 %).
При этом развитие региональных экономик шло в рамках уже сложившейся отраслевой структуры округа. Планируемой даже в инерционном сценарии Стратегии 2025 (не говоря о базовом и оптимальном вариантах) частичной реиндустриализации СК фактически не произош-
Таблица 2
Производство электроэнергии в регионах СКФО в 2000–2021 гг., млрд кВт.ч
|
Территория |
2000 г. |
2005 г. |
2010 г. |
2015 г. |
2018 г. |
2021 г. |
|
Дагестан |
3,7 |
5,1 |
5,5 |
4,3 |
4,8 |
4,8 |
|
Кабардино-Балкария |
0,1 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
|
Карачаево-Черкесия |
0,1 |
0,2 |
1,3 |
1,1 |
1,3 |
1,3 |
|
Северная Осетия – Алания |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,8 |
|
Чеченская Республика |
– |
– |
0,0 |
0,0 |
0,01 |
1,4 |
|
Ставропольский край |
18,3 |
16,5 |
17,4 |
18,9 |
18,2 |
17,4 |
|
СКФО в целом |
22,5 (2,6) * |
22,5 (2,4) |
25,1 (2,4) |
25,0 (2,3) |
25,1 (2,3) |
26,4 (2,3) |
Примечание . Рассчитано по: [Регионы России ... , 2006; 2022]. * – в скобках – доля от показателя РФ.
Таблица 3
Доля СКФО и его регионов в общероссийском показателе в 2000–2021 гг., %
|
Территория |
2000 г. |
2005 г. |
2010 г. |
2015 г. |
2018 г. |
2021 г. |
|
Валовой региональный продукт |
||||||
|
СКФО |
1,8 |
2,0 |
2,4 |
2,6 |
2,4 |
2,6 |
|
Ставропольский край |
0,92 |
0,83 |
0,89 |
0,94 |
0,87 |
0,93 |
|
Республика Дагестан |
0,36 |
0,51 |
0,74 |
0,87 |
0,75 |
0,81 |
|
Остальные республики |
0,52 |
0,66 |
0,77 |
0,79 |
0,78 |
0,86 |
|
Промышленное производство |
||||||
|
СКФО |
1,06 |
1,11 |
1,10 |
1,02 |
0,90 |
0,87 |
|
Ставропольский край |
0,65 |
0,68 |
0,68 |
0,66 |
0,57 |
0,59 |
|
Остальные республики |
0,41 |
0,43 |
0,42 |
0,36 |
0,33 |
0,31 |
|
Сельхозпроизводство |
||||||
|
СКФО |
5,6 |
7,5 |
9,9 |
8,0 |
8,6 |
8,7 |
|
Ставропольский край |
2,6 |
3,2 |
4,0 |
3,7 |
3,6 |
3,7 |
|
Республика Дагестан |
1,1 |
1,8 |
2,4 |
2,0 |
2,3 |
2,3 |
|
Остальные республики |
1,9 |
2,5 |
3,5 |
2,3 |
2,0 |
2,7 |
Примечание . Рассчитано по: [Регионы России ... , 2006; 2022].
ло. Удельный вес регионов СКФО в промышленном производстве РФ за 2005–2021 гг. сократился с 1,11 % до 0,87 %. Технологическая модернизация была реализована в основном в пределах ряда сегментов агропрома и промышленности, доля которых в структуре ВРП макрорегиона, однако в целом постепенно сокращалась (табл. 4). Обратную динамику демонстрировал строительный сектор и две ведущие сферы социальной жизнедеятельности региональных социумов (системы образования и здравоохранения).
Показательно, что данные структурные сдвиги совпадали во всех регионах округа, указывая на общий вектор трансформации в сторону «сервисной» экономики (тренд, характерный и для всей Российской Федерации). Известным исключением являлась Чеченская Республика, особенности структурной динамики экономики которой в значительной степени были обусловлены глубокой деформацией основных сфер жизнедеятельности республиканского социума в 1990-е гг. и последующей их коррекции.
Очевидные содержательные промахи Стратегии 2025 были в известной степени учтены в более позднем стратегическом документе – утвержденной 30 апреля 2022 г. «Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 г.». Но основной ее особенностью является практически полное отсутствие количественных показателей и общая размытость формулировок, определяющих основные направления экономической динамики регионов СКФО [Cтратегия социальноэкономического развития ... , 2022] 2. В существующем виде Стратегия 2030 просто не позволяет достоверно оценить степень ее реализации. Это дает основания полагать, что она, как и преды- дущие аналогичные документы в значительной степени, окажется не планом, предполагающим реальную реализацию, сколько декларацией о намерениях.
Впрочем, осторожность ее разработчиков свидетельствует, по крайней мере, о понимании того, что существующий кадровый и инфраструктурный потенциал республиканских экономик по-прежнему мало располагает к появлению в пределах республиканской части СКФО крупных промышленных объектов или наукоемких производств. И в современных российских реалиях наиболее перспективной стратегией развития округа является не кардинальная трансформация сложившейся структуры региональных экономик, но целенаправленное укрепление сегментов уже демонстрирующих свою конкурентоспособность. Основная доля таких производств в настоящее время сосредоточена в различных отраслях агропрома, в пищевой и легкой промышленности, строительстве, в сфере рекреации и туризма.
Агропром и туризм – «естественные» ниши экономической специализации макрорегиона
Следует отметить, что ориентация регионов округа на опережающее развитие данных сегментов фиксировалась с начала XXI века. Показательна в данном отношении динамика сель-хозпроизводства и рекреационно-туристического комплекса СКФО.
Несмотря на то что доля сельского хозяйства в совокупном ВРП округа и почти всех его регионов, как уже отмечалось, постепенно сокращалась, удельный вес будущего СКФО в продукции сельского хозяйства РФ в 2000-е гг. увеличился с 5,6 % до 9,9 %. В дальнейшем данный
Taблица 4
Отраслевая структура ВРП регионов СКФО в 2005/2020 гг., %
|
Регион |
Сельское хозяйство, рыболовство |
Промышленность |
Строительство |
Образование, здравоохранение |
Оптовая, розничная торговля; ремонт |
Остальные виды экон. деятельности |
|
Дагестан |
23,6/18,4 |
9,8/6,0 |
12,6/17,4 |
9,3/12,2 |
19,8/18,0 |
24,9/28,0 |
|
Ингушетия |
22,6/10,7 |
13,7/4,9 |
7,9/8,4 |
16,7/20,9 |
15,6/10,0 |
23,5/45,1 |
|
Кабардино-Балкария |
26,6/16,5 |
15,0/11,6 |
7,7/11,5 |
10,7/14,7 |
19,0/15,6 |
21,0/30,1 |
|
Карачаево-Черкесия |
23,9/17,0 |
18,0/19,0 |
7,8/6,8 |
12,2/15,4 |
16,3/7,5 |
21,8/34,3 |
|
Северная Осетия-Алания |
18,3/13,6 |
18,8/7,7 |
5,9/5,6 |
11,4/13,7 |
19,6/13,7 |
26,0/45,7 |
|
Чеченская Республика |
6,7/12,2 |
17,9/6,3 |
16,3/8,7 |
13,6/20,5 |
15,1/12,4 |
30,4/39,9 |
|
Ставропольский край |
15,3/10,1 |
23,6/18,0 |
5,4/9,2 |
10,3/11,8 |
17,1/15,8 |
28,3/35,1 |
|
СКФО |
19,0/14,0 |
17,7/11,4 |
8,4/11,4 |
10,6/13,7 |
18,1/15,3 |
26,2/34,2 |
Примечание . Рассчитано по: [Регионы России ... , 2006; 2022].
удельный рост прекратился, но округ определенно удерживал (отчасти и укреплял) свои позиции в российском Агропроме, занимая в целом ряде его крупных кластеров лидерские позиции.
Суммарный сбор зерновых с 6,1 млн т (среднегодовой показатель за 2000–2004 гг.) вырос до 12 млн в 2016–2021 гг., что увеличило вклад округа в российский урожай с 7,9 % до 9,7 %. За 2000– 2021 гг. производство овощей в СКФО выросло с 0,7–0,9 млн до 2,3–2,45 млн т (доля в российском производстве увеличилась с 9,2 % до 17,2 %). Со 150–160 тыс. т до 860–950 тыс. т вырос в 2000– 2010-е гг. сбор плодов и ягод на территории округа, обеспечив удельный рост доли СКФО в российском показателе с 5,6 % до 23,8 %.
Причем если в подъеме зернового кластера центральная роль принадлежала Ставрополью, то в овощном и плодово-ягодном, соответственно, Дагестану и Кабардино-Балкарии. Но свои направления специализации в области сельхоз-производства и сопряженной с ним пищевой промышленности имеются в каждом из регионов округа, включая Чеченскую Республику и Ингушетию, причем нередко доля регионов в общероссийском производстве того или иного вида продукции агропрома в разы превосходит удельный вес их населения (табл. 5).
Высокая устойчивость сложившихся в регионах СКФО кластеров производственной специа- лизации подтверждается и сравнительным анализом их состава в середине 2000-х и начале 2020-х годов. Помимо сбора зерновых, подсолнечника, овощей, плодов и ягод, это продукция животноводства (в том числе производство молока, шерсти), обширный и хорошо развитый в пределах округа сегмент производства алкогольной продукции (практически по всей ее товарной линейке). Но следует учитывать, что реальная обойма направлений производственной специализации заметно шире перечня формируемого официальной статистикой, поскольку практически в каждом из регионов СКФО в постсоветский период сложились свои обширные сегменты теневого производства (прежде всего в легкой и пищевой промышленности). Это обувной кластер в Дагестане; трикотажное производство в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае; мебельное производство в Северной Осетии и строительных материалов в Ингушетии; изготовление меховых изделий – на Ставрополье; коньячно-водочно-винный бизнес в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестане [Северный Кавказ ... , 2012].
Динамика рекреационно-туристической сферы СКФО также свидетельствует о значительных и достаточно успешных усилиях, прилагаемых всеми регионами округа, с целью превращения данной отрасли в один из локомотивов своего экономического развития.
Taблица 5
Доля СКФО и его регионов в общероссийских показателях в 2021 г., %
|
Показатель |
Дагестан |
Ингушетия |
Кабардино-Балкария |
Карачаево-Черкесия |
Северная Осетия – Алания |
Чеченская Республика |
Ставропольский край |
СКФО |
|
Население |
2,2 |
0,36 |
0,60 |
0,32 |
0,47 |
1,04 |
1,91 |
6,9 |
|
Продукция всего Агропрома |
2,31 |
– |
0,88 |
0,50 |
0,49 |
– |
3,72 |
8,7 |
|
Зерно |
– |
– |
1,06 |
0,34 |
0,72 |
– |
7,60 |
10,6 |
|
Сахарная свекла |
– |
– |
– |
– |
0,38 |
– |
3,67 |
– |
|
Подсолнечник |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
5,3 |
7,2 |
|
Картофель |
– |
– |
0,77 |
0,56 |
0,78 |
– |
– |
– |
|
Овощи |
10,61 |
– |
2,33 |
0,45 |
– |
– |
2,70 |
17,0 |
|
Плоды, ягоды |
5,02 |
0,62 |
13,42 |
0,45 |
1,25 |
– |
2,31 |
23,8 |
|
Круп. рогатый скот |
5,35 |
0,42 |
1,54 |
0,87 |
0,56 |
1,46 |
– |
11,7 |
|
Овцы, козы |
22,19 |
1,47 |
1,94 |
5,55 |
0,58 |
1,40 |
5,70 |
38,8 |
|
Скот, птица на убой |
– |
– |
0,69 |
– |
– |
– |
3,45 |
– |
|
Молоко |
2,89 |
0,40 |
1,72 |
0,61 |
0,61 |
– |
– |
8,7 |
|
Производство шерсти |
28,9 |
1,42 |
2,23 |
3,04 |
– |
1,38 |
9,04 |
47,3 |
|
Водка |
– |
– |
– |
– |
3,09 |
– |
– |
– |
|
Коньяк |
12,53 |
– |
– |
– |
1,04 |
28,9 |
42,5 |
|
|
Виноградные вина |
2,42 |
– |
1,54 |
– |
5,64 |
– |
11,1 |
20,7 |
|
Шампанское |
12,42 |
– |
0,79 |
– |
2,43 |
– |
2,86 |
18,5 |
Примечание . В таблице показаны только кластеры экономической специализации регионов и всего округа. Рассчитано по: [Регионы России ... , 2006; 2022].
За 2010–2019 гг. число туристов, посетивших регионы СКФО, выросло с 1,7 до 5,25 млн человек. Причем значительный прирост турпо-тока демонстрировал не только Ставропольский край, но и все республики округа. Данный восходящий тренд оборвала пандемия. Но после резкого сокращения туропотока в 2020 г. (на-пике COVID-19) рекреационно-туристическая сфера СКФО уже в 2021 г., не дожидаясь полного завершения пандемии, показала необычайно быстрые темпы восстановительного роста, продолженного в 2022–2023 годах. В 2022 г. республики СКФО посетило 5,74 млн туристов, почти в 7 раз больше, чем в 2010 г. (840 тыс. чел.). Кратно выросло число отдыхающих во всех регионах округа. Рекреация за последние 10– 15 лет оформились в самостоятельные кластеры экономики в Чеченской Республике и Ингушетии (табл. 6).
Следует учитывать и то, что подъем туристической отрасли имел для республиканских экономик ощутимый синергетический эффект, запуская в рост гостиничный и ресторанный бизнес, активизируя строительный комплекс (создание новых объектов размещения отдыхающих), способствуя модернизация транспортной инфраструктуры.
Заметим, что успехи рекреационно-туристического комплекса округа были связаны не столько с широко анонсированной в начале 2010-х гг. федеральной программой строительства на СК пяти крупных горнолыжных курортов (уровень ее экономической результативности оказался значительно ниже запланированной, как и в других стратегиях, реализованных в СКФО федеральным центром), сколько с общей активизацией внутреннего туризма в России. Однако свою роль сыграла этнополитическая и этноконфессиональная стабилизация СК, успехи государства в борьбе с регио- нальным террористическим подпольем, известная модернизация республиканских социумов.
Точки экономического роста в настоящее время обнаруживаются не только в Ставропольском крае, сохраняющем позиции основного экономического локомотива округа, но и в каждой из республик. Даже оставаясь в группе экономических регионов-аутсайдеров РФ, они демонстрируют известные успехи в своем хозяйственном развитии, в том числе и постепенный количественный рост современных производств и целых кластеров. К числу последних в Ингушетии можно отнести планируемое в ближайшие годы расширение алюминиевого кластера (на базе уже функционирующего завода), в Кабардино-Балкарии вольфрамомолибденового кластера, предполагающего восстановление существовавшего в советский период производственного комбината. В Карачаево-Черкесии планируется создание горно-обогатительного комбината добычи медно-колчеданных руд. В Северной Осетии формируются овощной и плодоовощной кластеры, в Чеченской Республике – кластер строительных материалов, в Ставропольском крае – кластер по производству удобрений и азотных соединений [Бессонов, Сальникова, 2022].
Значимым направлением экономической деятельности может стать и модернизация транспортной инфраструктуры округа, включающая реконструкцию региональных аэропортов и соединение их с крупнейшими курортами; строительство современных морских причалов в г. Дербенте и г. Махачкале; развитие транспортной сети трех ведущих городских агломераций округа (Махачкалинской, Ставропольской, Кав-минводской), строительство транскавказской автострады соединяющей курорты СКФО и Причерноморья [Стратегия социально-экономического развития ... , 2010].
Таблица 6
Число туристов, посетивших регионы СКФО в 2010–2022 гг. (тыс. чел.)
|
Годы |
Регион |
|||||||
|
Дагестан |
Ингушетия |
Кабардино-Балкария |
Карачаево-Черкесия |
Северная Осетия – Алания |
Чеченская Республика |
Ставропольский край |
СКФО |
|
|
2010 |
219 |
– |
90 |
421 |
110 |
– |
850 |
1690 |
|
2019 |
850 |
130 |
600 |
1500 |
350 |
200 |
1620 |
5250 |
|
2021 |
1085 |
102 |
1080 |
1700 |
300 |
170 |
1720 |
6157 |
|
2022 |
1560 |
105 |
1200 |
1900 |
750 |
230 |
1900 |
7645 |
|
Кратность роста, 2010–2022 гг. |
7,1 |
– |
13,3 |
4,5 |
6,8 |
– |
2,2 |
4,5 |
Примечание. Составлено и рассчитано по: [Сущий, 2013; Турпоток в Дагестан ... , 2023; 1,2 млн туристов посетили ... , 2023; В Ингушетии число туристов ... , 2023; Турпоток в Северной Осетии ... , 2023; Турпоток в Карача-ево-Черкесcии ... , 2023].
Отметим и то, что экономика большинства регионов СКФО успешнее многих других территорий России адаптируется к новым условиям своего функционирования, демонстрируя в 2022– 2023 гг. темпы роста промышленного, сельского производства и строительного сектора, превосходящие общероссийские показатели (табл. 7).
Противоречивые результаты экономической динамики СК
Итак, если ориентироваться на ключевые цели и параметры развития северокавказских республик (и СКФО в целом), зафиксированные в сменявших друг друга в 2000–2010-е гг. стратегических документах, федеральный центр потерпел на данном направлении очевидную неудачу. Несмотря на далеко не имитационные усилия по развитию региональных экономик и долговременные масштабные вливания федеральных средств, реиндустриализации СК в планируемых объемах не произошло, а отдельные, получившие развитие промышленные кластеры не сложились в республиканские индустриальные комплексы. Анклавная модернизация была характерна и для всех остальных сегментов экономики республик, включая агропром, на который, тем не менее, приходилось наибольшая доля современных производств.
Малоуспешными оказались и попытки центра решить проблему легализации обширного теневого сектора республиканских экономик, в котором по-прежнему сосредоточено около половины всего трудоактивного населения СК [Около половины ... , 2023]. Сохранилась максимально высокая зависимость республиканских бюджетов от федеральных трансфертов. Уровень дотации регионов СКФО за последние 15 лет почти не изменился (в 2022 г. в четырех из них он составлял 70–76 %), а значит центру и региональным властям несмотря на множественные декларации так и не удалось в 2000–2010-е гг. сформировать инвестиционный климат, позволяющий продвинуть республики округа к финансово-экономической самостоятельности (табл. 8) и нет
Таблица 7
Динамика промышленного производства и объемов работ строительного сектора регионов СКФО в 2022 – первой половине 2023 гг., %
|
Показатель |
Периоды |
Дагестан |
Ингушетия |
Кабардино-Балкария |
Карачаево-Черкесия |
Северная Осетия – Алания |
Чеченская Республика |
Ставропольский край |
РФ |
|
Промышленное производство |
2022 |
108,5 |
110,8 |
102,1 |
105,6 |
106,0 |
105,6 |
99,1 |
99,4 |
|
янв. – июль 2023 |
101,6 |
108,3 |
103,5 |
116,8 |
110,6 |
113,3 |
101,4 |
102,6 |
|
|
Строительство (объем работ) |
2022 |
100,7 |
47,3 |
106,0 |
71,7 |
124,1 |
119,0 |
112,1 |
105,2 |
|
янв. – июль 2023 |
104,3 |
65,9 |
113,4 |
110,1 |
119,3 |
174,2 |
152,6 |
108,7 |
Примечание. Рассчитано по: [Росстат. Витрина статистических данных ... , 2023].
Таблица 8
Некоторые показатели экономического развития регионов СКФО в 1996–2020 гг.
|
Показатель |
Год |
Дагестан |
Ингушетия |
Кабардино-Балкария |
Карачаево-Черкесия |
Северная Осетия – Алания |
Чеченская Республика |
Ставропольский край |
|
Уровень бюджетной самообеспеченности |
2010 |
0,217 |
0,12 |
0,39 |
0,31 |
0,40 |
0,21 |
0,56 |
|
2022 |
0,27 |
0,24 |
0,33 |
0,30 |
0,41 |
0,27 |
0,53 |
|
|
2024 |
0,27 |
0,24 |
0,32 |
0,30 |
0,39 |
0,27 |
0,53 |
|
|
Позиция в рейтинге инвест. привлекательности регионов РФ |
1996 |
61 |
75 |
68 |
78 |
42 |
79 |
46 |
|
2005 |
43 |
78 |
68 |
76 |
64 |
80 |
26 |
|
|
2011 |
33 |
79 |
60 |
75 |
62 |
72 |
23 |
|
|
2020 |
30 |
76 |
68 |
79 |
63 |
62 |
25 |
|
|
Позиция в рейтинге инвест. рисков регионов РФ |
1996 |
70 |
45 |
9 |
48 |
56 |
88 |
24 |
|
2005 |
84 |
87 |
85 |
81 |
77 |
89 |
30 |
|
|
2011 |
79 |
81 |
66 |
74 |
75 |
83 |
14 |
|
|
2020 |
85 |
84 |
81 |
76 |
80 |
82 |
30 |
Примечание. Рассчитано по: [Рейтинг инвестиционной ... , 2021; Рейтинг субъектов ... , 2021].
никаких оснований полагать, что данная ситуация изменится в обозримом будущем. По крайней мере в своих расчетах на ближайшие годы Минфин РФ исходит из сохранения существующего уровня дотационности регионов округа.
Показательно и то, что с середины 1990-х гг. большинство республик СК так и не сумело покинуть последние места в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов. Исключение составили Дагестан, к началу 2010-х гг. поднявшийся на 30 позиций (закрепился на уровне 30–35 места), а также Чеченская Республика, переместившаяся с 80-х в 60-е номера данного рейтинга, при этом в рейтинге регионов РФ по уровню инвестиционных рисков все республики СКФО с начала 2000-х гг. по настоящее время неизменно сохраняются в последней десятке (а пять из них, вместе с Тывой, замыкают этот рейтинг) (см. табл. 8).
Однако формируемая перечисленными разнообразными индикаторами картина безнадежного макрорегиона-лузера явным образом диссонирует с современными реалиями СКФО и непосредственно республиканского Северного Кавказа, фиксируемыми не только любым внимательным наблюдателем, но и целым рядом других социально-экономических показателей.
Как уже отмечалось, очевидными являются успехи республиканского агропрома (сельхоз-производства и взаимосвязанных с ними сегментами легкой и пищевой промышленности), а также рекреационно-туристического комплекса. Причем, если опережающий подъем агропрома регионов СКФО фиксировался преимущественно в 2000-е – начале 2010-х гг., то ускоренный рост туристических кластеров региональных экономик отчетливо обозначился только в последнее десятилетие.
Между тем стремительный рост турпото-ка в 2010-е гг., как представляется, не только частный показатель успешного развития отдельного сегмента республиканских экономик, но и значимый индикатор целого ряда серьезных положительных сдвигов происходивших в жизнедеятельности северокавказских обществ; среди них практически полная ликвидация боевого ядра вооруженного подполья и минимизация масштабов общей террористической активности; набравшая темпы социокультурная модернизация национального макрорегиона и сопряженная с ней более плотная интеграция республиканских социумов в жизнедеятельные циклы российского общества. Без этих подвижек, свидетельствую- щих о том, что макрорегион находится в русле общероссийской общественно-политической, экономической и социоментальной динамики, северокавказский туристический бум последнего десятилетия был бы невозможен.
Выводы
Таким образом, мы имеем перед собой две серьезно противоречащие друг другу картинки современной экономической динамики СКФО. Но при более детальном анализе обнаруживается, что данное противоречие в значительной степени является искусственным и определяется расхождением проекций двух стратегических векторов развития российского общества, задаваемых федеральным центром в 2000– 2010-е гг.: деятельностью по сохранению устойчивости российского социума («порядок») и обеспечением условий его комплексной модернизации («развитие»).
Все стратегии социально-экономического развития СКФО были в первую очередь ориентированы на показатели модернизации и инновационного роста. Между тем в динамическом сценарии самой России, реализуемым федеральным центром с начала – середины 2010-х гг., все отчетливей просматривался упор на стабильность , которой отдается предпочтение перед развитием [Северный Кавказ ... , 2012; Сущий, 2013]. Что вполне обосновано в условиях резко усилившихся внешних угроз функционированию Российского государства, но при этом до предела осложняет достижение ключевых ориентиров всех федеральных и региональных программ (включая Стратегии СКФО), нацеленных на количественный рост ряда ключевых социально-экономических показателей.
Есть основания полагать, что экстенсивный вариант развития, с упором на комплексную безопасность / стабильность, если не всей России, то по крайней мере на Северном Кавказе дает результат с заметным перевесом системного позитива, который обнаруживается в том числе и в сфере экономической динамики республик.
Однако положительный экономический эффект, при всей его важности в данном случае является второстепенным следствием, поскольку стратегические ориентиры РФ на Северном Кавказе сосредоточены не в экономике, а в сфере безопасности. Для федеральной власти на протяжении всего постсоветского периода центральной задачей в данном макрорегионе остается его комплексная стабилизация, представляющая процесс поступательной аккумуляции положительных микросдвигов и локальных подвижек во всех основных сферах жизнедеятельности республиканских социумов [Сущий, 2013: 169–172].
И с этого ракурса экономическую динамику СКФО в 2000–2010-х гг. можно признать достаточно успешной. Особенно с учетом того, что в пределах современного социума могут быть параллельно представлены территории самого разного уровня экономического развития (от постиндустриальных мегалополисов до заповедных природных зон, поддерживаемых в первозданном облике). Аналогичным образом в социально-экономическом пространстве одного государства присутствуют самые разные производственные и хозяйственно-культурные уклады.
Северный Кавказ, находясь в составе России (то есть не имея цели быть экономически самостоятельным / состоятельным социумом), имеет «право» на значительную экономическую специфику, заключенную в том числе в большой доле традиционных форм хозяйствования и социальной жизнедеятельности (по сути социально-экономической архаики). И, находясь в русле общероссийских социально-экономических трендов (метрополизация регионального пространства, ускоренное развитие сферы услуг и всей линейки сервисных сегментов экономики, строительного комплекса), преломлять их под собственную демографо-расселенческую, социокультурную, этноэкономическую специфику.
Сказанное выше, оговоримся, не является «апологией» сохранения на СК экстенсивных форм хозяйственной деятельности и консервативной экономической модели развития, но, по мнению автора, объясняет жизнеспособность и высокую устойчивость воспроизводства в данном национальном макрорегионе традиционных хозяйственных практик, в том числе мелкотоварного производства, высокой занятости населения в личных приусадебных хозяйствах и теневых сегментах экономики.
Список литературы Северный Кавказ: экономическая динамика первой четверти XXI в. (общероссийские тренды и региональная специфика)
- Бессонов А., Сальникова Ю., 2022. Экономика Северного Кавказа намерена расти // Эксперт Юг. № 12. URL: https://expertsouth.ru/articles/ekonomika-severnogo-kavkaza-namerena-rasti/?ysclid=llwa3fvu23997853099
- В Ингушетии число туристов выросло за 2022 год, 2023// Кавказ РБК. URL: https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/63c56f1e9a7947f2b0a1a3e1
- Дегоев В., Ибрагимов Р., 2006. Северный Кавказ: постсоветские итоги как руководство к действию. М.: Империум XXI. 114 с.
- Дружинин А. Г., 2009. Глобальное позиционирование Юга России: факторы, особенности, стратегии. Ростов-н/Д: СКНЦ ВШ ЮФУ. 288 c.
- Липина С. А., 2010. Стратегические приоритеты социально-экономического развития республик Северного Кавказа. Пути и методы их достижения. М.: ЛКИ. 424 с.
- Липина С. А., 2008. Республики Северного Кавказа: Приоритеты развития агропромышленного комплекса. М.: URSS. 248 с.
- Около половины населения Северного Кавказа работает в неформальной экономике, 2023 // Интерфакс. URL: https://www.interfax-russia.ru/southand-north -caucasus/main /okolo-polovinynaseleniya-severnogo-kavkaza-rabotaet-vneformalnoy-ekonomike-chayka
- Регионы России. Социально-экономические показатели 2005, 2006. М.: Росстат. 981 с.
- Регионы России. Социально-экономические показатели 2021, 2022. М.: Росстат. 1122 с.
- Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов RAEX. 1996–2020, 2021. URL: https://raex-a.ru/ratings/regions/1996–2020
- Рейтинг субъектов федерации по инвестиционному риску RAEX. 1996-2020, 2021. URL: https://raexrr.com/regions/investment_appeal/regiona_investment_risk_rating
- Росстат. Витрина статистических данных, 2023. URL: https://showdata.gks.ru/report/274128/
- Северный Кавказ: модернизационный вызов, 2012. М.: Дело. 325 с.
- Современное состояние и сценарии развития Северного Кавказа, 2010. Ростов-н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. 124 с.
- Социально-экономическое положение регионов РСФСР в 1990 г., 1991. М.: Госкомстат. 368 с.
- Сущий С. Я., 2013. Северный Кавказ. Реалии, проблемы, перспективы, первой трети XXI века. М.: Ленанд. 428 с.
- Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, 2010. URL: http://docs.cntd.ru/document/902238361
- Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года, 2022. URL: http://government.ru/docs/all/140821/
- Турпоток в Дагестан в 2022 году увеличился на 43%, 2023 // Это Кавказ. URL: https://travel.rambler.ru/news/50212012-turpotok-v-dagestan-v-2022-goduuvelichilsya-na-43/
- Турпоток в Карачаево-Черкесии в 2022 году вырос на 10%, 2023 // Кавказ РБК. URL: https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/63bd74eb9a7947377743944d
- Турпоток в Северной Осетии в 2022 году вырос в 2,5 раза, 2023 // Кавказ РБК. URL: https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/63bd49c09a794723431ce691
- Тхагапсоев Х. Г., 2007. Кавказская идентичность в процессах российской социокультурной трансформации // Этнократии на Юге России в экспертном измерении. Ростов-н/Д: СКНЦ ВШ ЮФУ. С. 36–67.
- Этноэкономика в модернизацонной парадигме развития национального хозяйства, 2004. Ростов-н/Д: Изд-во Рост. ун-та. 177 с.
- 1,2 млн туристов посетили Кабардино-Балкарию в 2022 году, 2023 // Сайт правительства КБР. URL: https://pravitelstvo.kbr.ru/news/1-2-mln-turistovposetili-kabardino-balkariyu-v-2022-godu.html