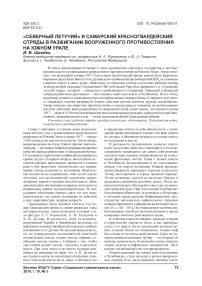"Северный летучий" и Самарский красногвардейский отряды в разжигании вооруженного противостояния на Южном Урале
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о роли руководства советского государства и местных органов власти в развязывании вооруженного противостояния на Южном Урале. Автор отмечает, что возникший в конце 1917 года острый политический кризис можно было разрешить мирными средствами. Вместо того, руководство челябинской организации ВКП(б), не сумевшее удержать власть в своих руках, обратилось за помощью в центр и соседние рабочие центры за вооруженной помощью. По решению СНК на Южный Урал был направлен т. н. «Северный летучий отряд», который - совместно с прибывшими из Самарской, Уфимской и Пермской губерний рабочими дружинами - восстановил советскую власть в Челябинске. После этого, выполняя указание о ликвидации очага контрреволюции, именно бойцы «Северного летучего» и Самарского отрядов развернули боевые действия против казачьих дружин самообороны. Автор отмечает, как нарастало противостояние, и концентрирует внимание на необоснованно жестких действиях красногвардейцев. В завершении автор делает вывод, что именно в конце 1917 - начале 1918 года большевики региона инициировали вспышку вооруженного противостояния, завершившуюся в мае - июне полномасштабной Гражданской войной.
Рабочие отряды, оренбургские казаки, "дутовщина", гражданская война, вооруженное противостояние
Короткий адрес: https://sciup.org/147231664
IDR: 147231664 | УДК: 930.2 | DOI: 10.14529/ssh190311
Текст научной статьи "Северный летучий" и Самарский красногвардейский отряды в разжигании вооруженного противостояния на Южном Урале
Споры о причинах и степени вины различных политических сил в развязывании вооруженного конфликта на Южном Урале в конце 1917 — начале 1918 года ведутся уже почти столетие. Тем не менее, вопросов меньше не стало. Одна из причин такого положения — чрезмерно мифологизированная картина событий периода революции и Гражданской войны. От созданных стереотипов и мифов абстрагироваться крайне трудно. В первую очередь, воссозданию истинной картины протекавших процессов и оценки роли в них различных политических сил мешает крайне плохая сохранность источников. Практически полностью не сохранились, либо до сих пор не доступны для исследователей документы непролетарских партий и органов местной власти. Даже документация советов раннего периода деятельности сохранилась крайне неудовлетворительно. В этих условиях объективно оценить шаги тех или иных политических сил, понять мотивацию их действий и дать характеристику лидерам непросто.
Традиционно было принято считать, что пожар Гражданской войны в стране развязали силы контрреволюции, олицетворением которой стали фигуры Л. Г. Корнилова, А. М. Каледина и А. И. Дутова. В частности, вину за вспышку вооруженной борьбы в Оренбуржье возлагали на войскового атамана Оренбургского казачьего войска полковника А. И. Дутова. Не признав новую власть, он, по утверждениям исследователей советской исторической школы, поднял мятеж, прервал сообщение центра страны с Сибирью с тем, чтобы «костлявой рукой голода» задушить Советскую власть. При этом никто и не считал нужным принимать во внимание тот факт, что А. И. Дутов не мог поднять мятеж по одной простой причине: присяги Советской власти он не давал, и обвинить его в нарушении взятых на себя обязательств, с точки зрения права, невозможно. Однако этот факт никого не смущал, и обвинение кочевало со станиц одного исследования в другое.
В реальности большевиков, взявших власть после получения известия о перевороте в столице, совершенно неожиданно для самих себя разогнал сводный отряд казаков, отправлявшихся на пополнение фронтовых частей. Узнав о захвате власти в Челябинске большевиками и их союзниками, атаман 3-го округа полковник Токарев приказал командовавшему маршевым отрядом подъесаулу Титову восстановить в городе прежний порядок. Титов остановил эшелон на разъезде Шерши и предъявил ультиматум местному совету. После непродолжительного обсуждения совет сдал полномочия городской Думе. При этом лидеры челябинских большевиков обратились за помощью в Петроград и соседние города региона. Информационное пространство наполнилось мифическими отрядами казаков-бородачей и «офицерско-кадетскими частями» [4, с. 102—103]. По утверждению челябинских большевиков, они были многотысячными и имели намерение потопить революцию в крови.
В действительности никаких казачьих отрядов в окрестностях города не было, а две маршевые сотни 3-го округа после выполнения выдвинутых ими условий убыли по назначению. Однако миф был создан и стал жить своей жизнью. Сразу же эту акцию приписали атаману Дутову — тот открыто не признал новую власть. В союзники к нему записали эсеров, кадетов и мифических монархистов. Так и возник «челябинский очаг контрреволюции».
Именно реакцией на «захват власти дутовцами в Челябинске» стала посылка в регион вооруженных отрядов. В их числе наиболее значимое место уделялось т. н. «Северному летучему», признанному в советские годы, легендарным, и Самарскому красногвардейскому отрядам.
В действительности «летучий» отряд ничем особенным от частей старой армии не отличался, кроме жгучего нежелания воевать. В целом, сибирские стрелковые полки на германском фронте показали себя с лучшей стороны. Но и из правил бывают исключения. Таковым и стал 17-й полк. Накануне Февральской революции он находился на СевероЗападном фронте и уже тогда не вызывал доверия командования. В декабре 1916 года полк отказался подчиняться приказам командования. Бунт быстро подавили; 40 человек предали военному суду, по приговору которого расстреляли 24 участников. Командовал полком полковник Бангерский, оставивший о себе неприглядную память. В советское время было принято чрезмерно преувеличивать истинные заслуги не только отдельных личностей, но и целых частей. Не стал в том исключением и 17-й полк. В частности, Н. В. Баранов позднее утверждал: «17-й Сибирский стрелковый полк, в котором я служил, в большинстве состоял из коммунистов и революционно настроенных солдат. Поэтому он одним из первых выразил горячее желание принять участие в защите завоеваний Октябрьской революции» [7, л. 18].
В Петрограде, получив телеграмму уральцев, спешно приступили к формированию отряда. Он был собран наспех из того, что на тот момент оказалось под рукой. По чистой случайности основу отряда составили роты 17-го Сибирского стрелкового полка, отличившегося расправами с «железнодорожной контрреволюцией», мешавшей передвигаться в тыл. Сибирякам важно было вернуться домой, поэтому они легко приняли предложение прибыть в Челябинск, восстановить власть большевиков и вновь продолжить путь домой, тем более, что никакой другой магистрали, по которой они могли попасть в Сибирь, кроме транссибирской, не было.
Помимо солдат 17-го полка, в столичную группу вошли балтийские моряки с линкоров «Петропавловск» и «Андрей Первозванный» Общее командование возложили на прапорщика 17-го полка Павлова, спешно переаттестованного новой властью в мичманы. Матросы этих судов в войну не воевали, но доказали свою преданность расправами с собственными офицерами и отличились в октябрьские дни в столице. Большевики стали направлять балтийцев как своеобразный спецназ в наиболее горячие точки страны.
Вполне заурядным был и отряд, прибывший по указанию председателя Самарского губернского военно-революционного комитета В. В. Куйбышева. Его комиссар В. К. Блюхер позднее вспоминал, как его напутствовал В. В. Куйбышев. «...Дутов захватив Оренбург, отрезал Среднюю Азию от центра, дутовские отряды окружили Челябинск и создают угрозу продвижения продовольственных поездов, к Москве и Петрограду, — отмечал он. — Центральный комитет сейчас принимает меры к ликвидации челябинской пробки. Посылаются отряды из Петрограда и Урала. Нам поручено выделить не менее 500 человек с артиллерией из революционных полков и вновь созданных рабочих отрядов. Вы, в качестве комиссара отряда, должны обеспечить эту чрезвычайно важную операцию» [2, с. 70—71].
10 эшелонов «красного мичмана» прибыло в Челябинск 18 декабря 1917 года, а вслед за ним — и дружины из заводских районов Урала. Совместно с посланцами из Самары и заводов Пермской и Уфимской губерний они быстро восстановили власть объединенного совета рабочих солдатских и крестьянских депутатов. На состоявшемся совещании С. Д. Павлов предъявил мандат, выданный Н. И. Подвойским. Отряду и его руководству предоставлялось право издавать приказы и распоряжения, объявлять районы на военном положении, создавать местные Советы и ВРК, осуществлять контроль за сбором продовольствия при согласовании своих действий с Советами и ВРК. Конечной задачей была ликвидация «дутовщины» [1, с. 758] .
Под «дутовщиной» понималось сопротивление новой власти в любой форме — будь то словесный отказ от выполнения ее предписаний, либо формирование станичных дружин самообороны, целью которых было обеспечение безопасности жителей. Казачество в политическом отношении было абсолютно безграмотным, не разбиралось в лозунгах и хитросплетениях программ политических партий, поэтому инстинктивно пыталось сохранить традиционные устои жизни, важной частью которой была военная служба. Эту инертность противники казачества преподносили как свидетельство приверженности устоям монархизма.
Уже в Челябинске самарский и «Северный летучий» отряды объединились и отправились на центр 3-го округа (город Троицк). С конца декабря 1917 года тлевший конфликт из плоскости политической неизбежно стал перерастать в вооруженное противостояние. Все, что происходило до этого, можно трактовать как острый политический, конфликт, у которого был шанс мирного разрешения. В годы первой революции противники «схватились» между собой не на шутку. Да и февральские события 1917 года бескровными можно назвать лишь условно. Тем не менее, они не привели к гражданской войне. По нашему мнению, именно необоснованно жесткие действия большевиков против своих политических противников и подвигли последних на борьбу с «народной властью».
Челябинск был крупной железнодорожной станцией. Через город прошло немало воинских эшелонов на японскую и германскую войны. Общественность всегда провожала солдатские эшелоны торжественно — они везли бойцов на борьбу с врагом внешним. В декабре 1917 года впервые бравурными маршами и патриотическими криками провожали на братоубийство.
Отряды размещались в нескольких эшелонах и продвигались по Челябинско-Троицкой железной дороге. Помимо винтовок красногвардейцы имели несколько десятков пулеметов и 12 легких орудий. Тактика их действий была такой: эшелон подходил к станции, красногвардейцы высаживались, занимали населенный пункт, разгоняли традиционные казачьи органы управления, создавали или восстанавливали советы рабочих и крестьянских депутатов. Опираясь на крестьянскую бедноту, арендовавшую у казаков земли, выявляли зачинщиков и разбирались с ними тут же, без какого-либо следствия и суда.
Казаки близлежащих к дороге станиц, услышав о карательном поезде, пытались противодействовать его продвижению. Однако отсутствие единого командования и организации, оружия и прочих средств ведения боевых действий заведомо предопределили их поражение. Реально попытки сопротивления попытались предпринять лишь отдельные казаки и небольшие поселковые дружины, вооруженные дробовиками и холодным оружием. Позднее появились и винтовки, хотя и в ограниченном количестве — их взяли у казаков запасных полков и со складов военных отделов. 23 декабря 1917 года сводный отряд занял станцию, а затем и поселок Еман-желинский. Станичный атаман хорунжий Потапов и командир дружины самообороны хорунжий Болотов попытались оказать сопротивление — по их приказу казаками был разобран железнодорожный путь. Но это не остановило красногвардейцев — они предусмотрительно включили в состав отряда специальный ремонтно-восстановительный эшелон. Движение было восстановлено, а в станицу отправлен вооруженный отряд. Узнав об этом, дружина самообороны Еткульской станицы через Соколовский поселок ушла к станции Нижне-Увельской [11, с. 104]. На Еманжелинскую краском В. В. Касперский наложил контрибуцию общей суммой 50 тыс. руб., на Тимофеевский поселок — 11 тыс. руб. [3].
В Еткульской «…в момент вступления в станицу нашего отряда, — писал очевидец, — станичный атаман и священник били в колокол …когда ворвались наши кавалеристы на колокольню …они сняли атамана и священника и тут же отряд с большим гневом расстрелял их прямо в ограде у церкви» [7, л. 132].
Красногвардейцы вели себя так, словно они передвигались по вражеской территории. Один из них, некто М. Качев, вспоминал: «…у хутора Ключи мы преследовали небольшой отряд бандитов (!) и заметили, как один казак спрятался в яме… на вопрос — почему он оказался здесь и с оружием, тот наивно ответил, что был на охоте за зайцами, и услышав выстрелы, бросился бежать, случайно увидел яму… спрятался в ней. Его, конечно, пустили в “расход” — не охоться за “красными зайцами!”» [5, л. 2]. В соседнем Таяндинском поселке был арестован бывший атаман Осипов, 12 урядников и казаков. Их доставили на станцию Еманжелинскую и также расстреляли.
Отряд самообороны действовал и в станице Кичигинской. Позднее, после восстановления законной власти, станичный атаман отчитывался перед войсковым штабом: «Железнодорожный путь от станицы Кичигинской от 3 до 5 верст был разрушен, сообщение между Троицком и Челябинском было нарушено. Но этим дело не кончилось, пришлось брать оружие и сражаться с наступающей с севера Красной армией. Когда шел первый вооруженный разведовательный отряд и исправлял разрушенный железнодорожный путь, наши казаки с хутора Уланова в 2-х верстах от Кичигинской и в 26 верстах от ж/д в количестве 6 человек (четырех Улановых, Алексея и Василия Корелиных), бросились к составу, исправляющему ж/д, открыли ружейный огонь, но вооруженная банда начала обстреливать из пулеметов по наступавшим казакам. Прекрасно зная, что тут вооруженных сил казаков нет, они повели атаку на хутор Уланов. На хуторе красногвардейцы отобрали у кого деньги, у кого вещи, пообещав хозяевам быть повешенными на своих воротах. К сожалению, без жертв не обошлось. Оказались убитыми в неравном бою три брата Улановых» [10, л. 30 — 30 об.].
В свою очередь командующий отрядом В. К. Блюхер приказал развернуть артиллерию. Под ее прикрытием станица была занята, на жителей наложена контрибуция в сумме 75 тыс. рублей. Казаки должны были доставить 100 подвод с бочками воды для паровоза, 100 пудов печеного хлеба, 50 пудов мяса, 10 пудов масла или сала. За неисполнение требования, командование объединенного отряда грозило открыть по Кичигинской станице артиллерийский огонь. Затем по заранее составленному списку был произведен арест «контрреволюционеров». Всех их, в числе 22 человек, отконвоировали в штаб для предания «революционному полевому суду».
Аналогично повели себя и казаки других, прилегавших к линии железной дороги, поселков. Но силы были неравны, кроме того, казаки не могли решиться на применение оружия против своих же соотечественников, поэтому без особого труда была занята и предпоследняя перед Троицком станция — Нижне-Увельская. Находившийся там казачий отряд разбежался при подходе первого же красногвардейского состава.
Казаки реально противостоять красногвардейскому отряду не могли. Они воспитывались в духе борьбы с «врагом внешним», а когда вместо него появился «враг внутренний», они растерялись и были полностью деморализованы. Вся их воинская подготовка и традиционная удаль иссякли. В конечном итоге красные эшелоны рано утром 25 декабря 1917 года вошли в «осиное гнездо контрреволюции» — город Троицк. По свидетельству красногвардейца И. А. Иванова: «…при появлении первого эшелона большевиков Северного летучего отряда казачьи полки быстро разбежались по домам, офицерство из Троицка сбежало в станицу Косо-бродскую, которые по другим станицам, где стало призывать казачество к борьбе с Советами» [6, л. 67]. На станции красногвардейцы в очередной захватили около 80 казаков и 12 офицеров. Офицеры позднее были расстреляны с особым цинизмом. Впоследствии, на одном из совещаний старых большевиков при Челябинском обкоме ВКП (б), проходившем 3 июля 1939 года, некто Вяткин отмечал: «Если кто помнит, в Троицке расстреляли полковника Плотникова, публично, на станции, вечером часа в четыре. Стреляли я, Проскуряков, Лещук, Евтеев добивал. За эту поездку взяли в Кичигино казачьего атамана, которого поставили смотреть расстрел Плотникова. А теперь говорим — уходи. Он упал и с ума сошел» [9, л. 33].
Если сопоставить даты, получается дорога в 130 верст между Челябинском и Троицком заняла у красногвардейцев неполные три дня. Причина — много времени занимало восстановление железнодорожного полотна.
Надежды солдат 17-го Сибирского стрелкового полка на скорое возвращение домой не оправдались. Ликвидировав «гнездо контрреволюции», эта часть «Северного отряда» была оставлена в городе для охраны. Вскоре полк стал именоваться 17-м Уральским стрелковым полком. Бывший унтер-офицер этого полка И. Сугаков возглавил штаб всех отрядов, находившихся в Троицке [8, л. 199]. Отряд же матросов во главе с С. Д. Павловым убыл в Бузулук, где влился в группу П. А. Кобозева и принял участие в боях по взятию Оренбурга.
В конечном итоге гарнизон Троицка составили: 17-й Уральский (Социалистический) полк, имевший на вооружении 32 пулемета и 6 орудий, боевая дружина коммунистов (Коммунистическая дружина) 400 чел., Интернациональный батальон мадьяр (250 чел.), рота китайцев, красногвардейский отряд крестьян деревни Николаевки, полк им. Степана Разина [7, л. 98].
Миф о «дутовщине» лопнул. Войсковой атаман полковник А. И. Дутов не имел сколько-нибудь серьезной поддержки в казачьей среде — верными ему остались не более тысячи человек. Один отряд ушел на Уральск, другой — численностью чуть более 400 человек — во главе с самим атаманом отступил в Верхнеуральск. Вопреки заявлениям местных большевиков, А. И. Дутова поддержали не мифическая «офицерско-кулацкая верхушка», а армейские офицеры (они принимали участие в октябрьских боях в Москве и были переправлены в Оренбург сестрой милосердия М. А. Нестерович в числе около 120 чел.), юнкера местного военного училища, кадеты и гимназисты [12, с. 287—288].
18 января 1918 года матросы убыли в Петроград и затем оказались под Псковом. Но мир на войско- вой территории оренбургского казачества так и не наступил. Угли зажженного бойцами «Северного летучего отряда» пожара Гражданской войны разгорелись. Прибывший в центр 2-го округа — город Верхнеуральск — войсковой атаман серьезной поддержки не получил. На борьбу с ним из Троицка была направлена группа А. Генгросса — Пермский полк (сформирован из разрозненных дружин заводских поселков) и отряд В. К. Блюхера. Туда же были стянуты отряды братьев Каширных, уфимский отряд Кадомцева и другие рабочие дружины. Без особого труда верные атаману казачьи дружины (в терминологии белых — партизанские отряды) оказались вытесненными с войсковой территории и скрылись в Тургайской степи. Подавлены были и мелкие очаги сопротивления на территории Троицкого и Челябинского уездов Оренбургской губернии.
После выступления Чехословацкого корпуса Гражданская война приняла полномасштабный характер. Свое место в ней заняли бывший 17-й Сибирский стрелковый полк и самарский отряд комиссара В. К. Блюхера. На базе красноармейских частей, принимавших участие в ликвидации «дутов-щины», позднее сформировался крупный отряд, получивший название «Южноуральской партизанской армии». Он сумел прорваться через линию фронта в районе Сарапула и влился в ряды 3-й советской армии Восточного фронта.
Руководство советского государства, направившее «Северный летучий отряд» на Южный Урал и местные власти, формировавшие свои дружины, ставили перед ними четко определенную задачу — ликвидировать вооруженным путем сопротивление новой власти. Оправлявшиеся на борьбу с «дутов-щиной» части получали широчайшие полномочия. Командование «Северного» отряда могло на месте творить суд и расправу, попирая тем самым любые представления о законности, поэтому новая власть, не желавшая идти на политические компромиссы и сделавшая ставку на силовые методы, в первую очередь, повинна в развязывании гражданской войны. Советское руководство всех уровней однозначно ответственно перед потомками за свои действия. При этом, следует отметить, что свою лепту внесли и бывшие попутчики большевиков — социалисты всех мастей, а также их противники. Одни до последних дней пытались предотвратить братоубийственную бойню, другие, как и большевики, — решить проблему при помощи оружия. Но, в конечном итоге, проиграли все.
Список литературы "Северный летучий" и Самарский красногвардейский отряды в разжигании вооруженного противостояния на Южном Урале
- Абрамовский, А. П. Северный летучий отряд / А. П. Абрамовский, В. С. Кобзов // Челябинск: энциклопедия. - Челябинск: Каменный пояс, 2001. - 1112 с.
- Блюхер, В. К. Революционные отряды рабочих, крестьян и казаков Южного Урала в боях за Советскую власть / В. К. Блюхер // На Южном Урале. Воспоминания участников гражданской войны. - М., 1958. - 333 с.
- Известия Челябинского совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. - 1917. - № 51.
- Лисовский, Н. К. Октябрь на Южном Урале (борьба за установление и упрочение Советской власти на Южном Урале в 1917- 1918 гг.) / Н. К. Лисовский. - Челябинск: Челяб. кн. изд-во,1957. - 303 с.
- ОГАЧО. Ф. К-288. Оп. 2. Д. 57.
- ОГАЧО. Ф. К-288. Оп. 2. Д. 62.
- ОГАЧО. Ф. К-288. Оп. 2. Д. 104.
- ОГАЧО. Ф. К-288. Оп. 2. Д. 203.
- ОГАЧО. Ф. П-596. Оп. 1. Д. 359.
- РГВА. Ф. 40327. Д. 69.
- Сосенков, В. И. Дорогие мои земляки. Из истории Еткульского района / В. И. Сосенков. - Челябинск: Форумиздат, 1994. - 176 с.
- Яконовский, Е. Пугачевские дороги / Е. Яконовский // Сопротивление большеизму. 1917-1918 гг.; сост. и науч. ред., предисл. и комм. д-ра. ист. наук С. В. Волкова - М.: Центрполиграф, 2001. - 606 с.