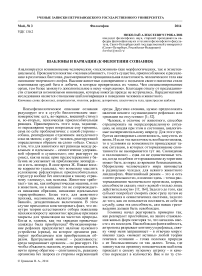Шаблоны и вариации (к филогении сознания)
Автор: Грякалов Николай алексеевиЧ.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (140), 2014 года.
Бесплатный доступ
Анализируется возникновение человеческих «эксклюзивов» (как морфологических, так и экзистенциальных). Проясняется понятие «человек-убиквист», то есть существо, приспособленное к расселению в различных биотопах, рассматривается принципиальная пластичность человеческого тела как основание творческого люфта. Высшие животные одновременно с подъемом своего психизма стали пленниками орудий бега и добычи, в которые превратились их члены. Чем специализированнее орган, тем более замкнуто дополнительное к нему «окружение». Благодаря отказу от предзаданности становятся возможными инновации, которые никогда прежде не встречались. Парадигматикой исследования является отношение шаблон/вариация в поведении человека и животного.
Филогенез, антропология, этология, рефлекс, ауторитмия, пластичность тела, трансгрессия шаблона
Короткий адрес: https://sciup.org/14750654
IDR: 14750654 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Шаблоны и вариации (к филогении сознания)
Психофизиологическое описание сознания редуцирует его к сугубо биологическим закономерностям: есть, во-первых, внешний стимул и, во-вторых, психическая приспособительная реакция. Правомерность этого хода, задающего переживание через инородные ему термины, сама по себе проблематична: с одной стороны – собака, реагирующая отделением желудочного сока на звонок; с другой – человек, реагирующий определенным образом на слово «обед». Смысл в том, что для животного нет разницы между реальным и идеальным – семиотически удержанной «формой и сущностью»; оно реагирует на смысл, как на вещь: крик предостережения у бабуина не указывает на приближение леопарда – он и есть леопард. В свое время Ж. Пиаже вполне корректно указывал, что возможно мыслить усложнение рефлекторных приспособительных структур вообще без апелляции к такому странному «довеску», как психика. Животное «работает» так же, как кибернетическая машина, и ни в животном, ни в машине это не сопровождается никакими образами, никакими идеальными «пристройками». Более того, для животного психика, несомненно, является «опасной прибавкой», дезадаптивным включением. В этом случае приходится констатировать факт, что изнутри теории естественного отбора появление психики попросту непонятно: вредные признаки закрыты для трансляции на частотах природы. Когда и, главное, как эта «вредная привычка» однажды была приобретена? Функционирование рефлекса предполагает наличие пускового устройства (среды), на которое организм реагирует необходимым или приобретенным образом. Центральный момент – реактивность: среда запрашивает организм – он реагирует. Но чтобы объяснить психизм, нужно предположить нечто прямо обратное – спонтанность, реакцию организма без запроса со стороны окружающей среды. Другими словами, нужно предположить наличие некоего «сумасшедшего рефлекса» или «реакции на отсутствие» [1; 52].
Человек, в отличие от животного, способен отреагировать на непредопределенную ситуацию, не впадая при этом в состояния, аналогичные экспериментальному неврозу. Для этого требуется активировать спонтанность, запустить ее вновь. И если эта психичность вообще возможна, то к условиям ее возможности принадлежат такие ситуации, в которых оттормаживание спонтанности не вымарывается тут же. Сновидение и галлюционоз – едва ли не единственные точки, когда подобное оттормаживание ауторитмии может быть до поры до времени безнаказанным. Оформление человеческого мира начинается в радикально чуждых для всякого животного ландшафтах. Фантазийный режим – это и есть «ничто реальности», и именно здесь – точка растормаживания человеческого произвола, корень способности сказать «нет» всякой «только лишь действительности» [11; 164]. Задолго до того, как субъект попробует смирить свою грезу путем ее заключения в семиотических системах, задолго до того, как он попытается поставить ее себе на службу, сама эта способность, сам навык грезо-в и дения должен быть освобожден.
Гоминид начал реагировать примерно так, как реагируют простейшие, на закате становления живых форм повторяя то, что началось вместе с их восходом. Высвобождая фантазийность, антропоид разрывает континуум рефлекса, связку «мир меня запрашивает – я отвечаю миру»: именно здесь «момент истины» любой теории генезиса сознания – точка поломки природы с ее бессмысленным «и так далее». Точка, где замкнутые на органику поведенческие шаблоны приходят к своему нулевому штриху – и качество переходит в количество. Вне и по ту сто- рону внутренней спонтанности, прерывающей равномерные колебания рефлекторного маятника, животное поведение залипает в стереотипности. К. Лоренц описывает свои опыты с куторой (водной землеройкой): осваивая свой охотничий участок, зверьки медленно движутся по самым извилистым и непредсказуемым траекториям, тщательно обнюхивая и ощупывая вибриссами свой путь, – зато потом, когда маршрут изучен, землеройка стремительно проносится по нему на предельной скорости, ни на сантиметр не отклоняясь от однажды проложенного пути. Если положить на такой тропе камень, зверек несколько раз с разбегу врежется в него носом, прежде чем заметит. Еще более забавная картина получится, если убрать камень: кутора снова и снова будет пытаться запрыгнуть на несуществующий предмет [5]. И даже если признать, что с биологически адаптивной точки зрения поведение куторы вполне целесообразно, эта целесообразность может быть реализована только в стабильных кругах природного «окружения» – икскюльев-ского Umwelt’а (прошедшего через сенсуальный фильтр небольшого фрагмента явлений как подлежащего операциональности), под который она намертво заточена.
Этот фрагмент действительности предопределяет ритуально оформленные значимые формы поведения: охота, соревнование самцов, определение вожака, брачные игры и т. д. оформляются как сложная система «правильных», то есть имеющих значение и понятных, поз и жестов. Эта совокупность значимых форм жестко противостоит незначимым – их, по большому счету, даже и «нет». Животные быстро вырабатывают привычки и ритуалы, которые становятся существенным элементом их жизни, и с трудом меняют их. Случай куторы сродни увеличительному стеклу – тяга к выработке шаблонной последовательности действий в животном мире есть скорее правило, чем исключение. В этом горизонте трансгрессия животности есть, прежде всего, трансгрессия шаблона, проявляющаяся в отказе, во-первых, от определенной среды обитания, к которой можно приспособиться раз и навсегда в плане видовой определенности, и, во-вторых, в отказе от специализации. Человек – это эври-бионт, и даже убиквист, то есть существо, приспособленное к расселению в принципиально различных биотопах. Потому и оказалось возможным так называемое взрывное расселение, а его скорость поражает: «…сам факт распространения вида “человек разумный” на всех четырех пригодных к жизни континентах, на архипелагах и изолированных островах в течение каких-нибудь 10–15 тысяч лет говорит не столько о плодовитости этого вида, сколько о действии какой-то внутренней пружины, разбрасывавшей людей по лицу планеты» [9; 96–97].
В антропогенезе магистральной оказалась тенденция к отбору по принципу автономиза- ции и большей независимости от среды, причем инициаторами цепи ароморфозов выступили наименее специализированные формы [4].
В этой ситуации гоминиды явили эволюционно непредсказуемый ответ, совершенно не укладывающийся в логику традиционной адаптивности через специализацию: снижение мута-бильности и замедление эволюционных реакций. Только существа с минимальной морфофизиологической и психической специализацией были способны на такой эволюционный кульбит. Так, аутсайдеры специализации приступили к синтезу новой конфигурации жизни, причем процесс этого синтеза с биологической точки зрения представлял собой тяжелейшую эволюционную патологию [7]. «Совершенство» специализированной формы есть совершенство послания, записанного на магнитную пленку, склеенную в кольцо. И вот в какой-то момент (не важно, что его инициирует: непредвиденный средовой запрос, рост ультрапарадоксальных состояний внутри популяции или что-то еще) происходит обрыв этой цикличности и выхватывается некий фрагмент, звуковая последовательность, мелодический рисунок которой недорисован, и эта его недорисованность открывает будущее, которое неизвестно чем грозит. Именно в этих филогенетических регионах сущего была заложена основа той экзистенциальной «беспочвенности», от которой философская антропология отправляется как от феноменологически ближайшего. Человек является животным, способным к идеации и аскезе [11] и эксцентрически организованным – в противоположность животному синкретизму [8], принципиально неспециализированным и постольку обреченным на социальное протезирование этой полиморфности [3]. По-видимому, эта морфологическая неспециализированность, в имманентном строе жизни выглядящая как эволюционная рецессия, действительно складывалась либо в уникальных природных ландшафтах, либо в ситуациях ослабленного эволюционного прессинга. Возможность семиосферы – возможность экспериментировать с текстом, не вовлекая тут же в этот эксперимент органику, – изначально допущена на уровне самой органики. Форма и строение человеческого тела были предрасположены к органопроекции как развертыванию частичных специализированных машин из изначально полиморфного «тела без органов»: «…техника есть сколок с живого тела или, точнее, с жизненного телообразующего начала (курсив мой. – Н. Г. )» [10; 43]. По сравнению с человеческим телом тело животного (совокупность органов) механизм куда более успешный, но однообразный.
В противоположность этим слабовариабельным устройствам человеческое тело изначально устанавливалось как непредопределенное к какому-либо одному типу деятельности, и именно благодаря этой необычайной лабильности было эффективно использовано в деле расшире- ния внешнего окружения посредством разного рода экстернаций. Принципиальная открытость в алеаторику, в измерение чистого случая будет, конечно, порождать специфические адапторы: ситуации радикальной неопределенности, разрешающиеся у животного в неадекватных рефлексах, в человеческом мире порождают институт магии, символически компенсирующей конечность субъекта, то есть необоснованность его желаний [2; 253].
Б. Малиновским отмечено весьма специфическое распределение магических практик в жизни тробрианов. Таковыми сопровождаются преимущественно те сферы жизни, где отсутствует гарантия будущего результата, где человек не уверен в успехе своих действий, где он в значительной степени зависит от случая, от игры природных сил, где его подстерегает опасность – причем как в плане природных стихий, так и в плане социальных рисков: «Так, например, опасная ловля акулы… прямо-таки окутана магическими ритуалами. Столь же жизненно важный, но легкий и надежный способ ловли рыбы при помощи яда вообще не влечет никаких магических действий» [6; 325]. Практиковать магию – все равно, что пить за успех абсолютно безнадежного дела: контрактация с духами отсутствует всюду, где предприятие характеризуется определенностью, надежностью и полностью поставлено под контроль рациональных методов и технологических процессов, и, напротив, господствует повсюду, где под знаком страха и надежды достигают широких масштабов элементы удачи и случайности.
PATTERNS AND VARIATIONS (ON PHYLOGENY OF CONSCIOUSNESS)
The article is concerned with the fundamental phenomenon of human presence and its phylogenic prerequisites. The genesis of human “exclusives” (both morphological and existential) is studied. The concept of a “man-ubikvist”, who easily adapts to various habitats, is clarified. The concept of the human body plasticity as a basis of the human social mobility is considered. Higher animals with strongly developed psyche became prisoners of procurement instruments’ production. Due to conscious rejection of the predetermined outcome, innovative introductions have become possible, the ones that have never been encountered before. The paradigmatic approach of the research is based on the correlation patterns/variations in behavior of a human beings and an animal.
Keу words: philogenesis, consciousness, anthropology, ethology, reflex, autoritmics, plasticity of the body, transgression patterns
№ 12. P. 37–52.
Список литературы Шаблоны и вариации (к филогении сознания)
- Бородай Ю.М. Эротика. Смерть. Табу. Трагедия человеческого сознания. М.: Гнозис, 1995. 416 с.
- Витгенштейн Л. Заметки о «Золотой ветви» Дж. Фрезера//Историко-философский ежегодник’ 1989. М.: Наука, 1989. С. 251-268.
- Гелен А. О систематике антропологии//Проблема человека в западной философии: Переводы. М., 1988. С. 151-201.
- Зубов А.А. Общие предпосылки гоминизации//Вопросы антропологии. 1983. Вып. 71. С. 29-41.
- Лоренц К. Кольцо царя Соломона. М.: Римис, 2011. 240 с.
- Малиновский Б. Миф в первобытной психологии//Малиновский Б. Избранное: динамика культуры. М.: РОС-СПЭН, 2004. С. 285-334.
- Пелипенко А.А. Дуалистическая революция и смыслогенез в истории. М.: Изд-во МГУКИ, 2007. 436 с.
- Плеснер Г. Ступени органического и человек. Введение в философскую антропологию. М.: РОССПЭН, 2004. 368 с.
- Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М.: Наука, 1979. 235 с.
- Флоренский П.А. Органопроекция//Декоративное искусство СССР. 1969. № 12. С. 37-52.
- Шелер М. Положение человека в космосе//Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. С. 133-193.