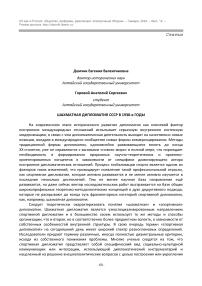ШАХМАТНАЯ ДИПЛОМАТИЯ СССР В 1930-е ГОДЫ
Автор: Демчик Евгения Валентиновна, Горовой Анатолий Сергеевич
Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются механизмы и способы реализации шахматной дипломатии как инструмента развития международной коммуникации со стороны Советского Союза в отношении других стран в период 1930-х гг. На основе комплексного исторического анализа научной литературы и исторических источников, некоторые из которых впервые вводятся в научный оборот, дана сравнительная оценка эффективности её применения относительно общей государственной международной политики СССР.
Международные отношения, спорт и политика, спортивная дипломатия, советский спорт, история шахмат
Короткий адрес: https://sciup.org/140306400
IDR: 140306400 | DOI: 10.34830/SOUNB.2024.71.50.001
Текст научной статьи ШАХМАТНАЯ ДИПЛОМАТИЯ СССР В 1930-е ГОДЫ
Режим доступа:
Алтайский государственный университет
ШАХМАТНАЯ ДИПЛОМАТИЯ СССР В 1930-е ГОДЫ
На современном этапе исторического развития дипломатия как ключевой фактор построения международных отношений испытывает серьезную внутреннею системную модернизацию, в связи с чем дипломатическая деятельность выходит на качественно новые позиции, внедряя в международное сообщество новые формы коммуницирования. Методы традиционной формы дипломатии, однолинейно развивающиеся вплоть до конца XX столетия, уже не справляются с вызовами «нового мира» в полной мере, что порождает необходимость в формировании прорывных научно-теоретических и практикоориентированных концептов в зависимости от специфики доминирующего актора построения дипломатических отношений. Процесс глобализации спорта является одним из факторов таких изменений, что провоцирует появление такой профессиональной отрасли, как спортивная дипломатия, которая активно развивается и не менее активно изучается в последние несколько десятилетий. Тем не менее научная база направления ещё развивается, но даже сейчас вектор исследовательских работ выстраивается на базе общих широкопрофильных теоретико-методологических концепций в духе дедуктивного подхода, которые не раскрывают до конца суть фрагментарных категорий спортивной дипломатии, как, например, шахматная дипломатия.
Следует теоретически охарактеризовать понятия «шахматная» и «спортивная» дипломатии. Шахматная дипломатия является узкоспециализированным направлением спортивной дипломатии и в большинстве своем использует те же методы и способы организации, что и вторая, но в соответственно более предметном аспекте, в зависимости от собственных особенностей внутренней структуры. В свою очередь термин «спортивная дипломатия» на сегодняшний день имеет широкий спектр разноплановых определений. Исследователи придают термину различные, иногда полностью диаметральные критерии, исходя из собственного понимания проблемы. Многие ученые сходятся на том, что спортивная дипломатия представляет собой специфический вид социально-культурной коммуникации или интеграции, использующий дипломатический инструментарий и нацеленный на решение внешнеполитических вопросов с целью построения или укрепления
Статьи
дипломатического сотрудничества посредством соревновательной, фестивальной, спортивно-праздничной или иных других форм спортивно-физкультурной активности1.
Ещё в начале XX в. правительства различных стран начали осознавать, какими перспективными возможностями обладает спорт при использовании его в качестве инструмента политического влияния. К началу рассматриваемого периода в высших партийных кругах СССР продолжала фигурировать идеологическая концепция В.И. Ленина о представлении Советского Союза в амплуа «осажденной крепости». В то же время намечаются существенные изменения в конструировании дипломатических отношений с потенциально «враждебными» иностранными государствами. Под давлением различных макрополитических факторов перед советским руководством усиливается потребность поиска выхода страны из внешнеполитической изоляции и повышения международного авторитета. Одним из способов решения данной проблемы стало расширение межгосударственных взаимоотношений в спортивно-шахматной среде. К началу 1930-х гг. шахматный спорт стал позиционироваться как одно из наиболее перспективных культурнотворческих направлений духовной жизни страны, которое можно использовать для решения ряда различных внешнеполитических вопросов. На протяжении осуществления государственной политики в данном направлении шахматная дипломатия находилась в постоянной динамике.
Несмотря на повышение интереса к изучению истории отечественного спортивного движения и развития спортивной дипломатии, наблюдается острый дефицит современных исследований по истории шахмат. Подавляющее большинство работ сосредотачивает внимание на второй половине XX в., на периоде биполярного противостояния коммунистической и капиталистической парадигм. Исследование впервые затрагивает тему использования шахматной дипломатии как самостоятельного направления дипломатической деятельности, тем самым показывая, что Советским Союзом ещё в 1930-х гг. были предприняты попытки использования шахматного спорта в качестве инструмента международной политики. В рамках данной статьи шахматная дипломатия будет рассматриваться прежде всего как средство развития международной коммуникации со стороны СССР в отношении других стран в рассматриваемый период. В статье предпринимается попытка проанализировать степень эффективности шахматной дипломатии относительно целей общей государственной международной политики СССР. Освещаются проблемы функционирования организационной структуры шахматных госорганов, механизмы и способы построения контактов спортивной общественности стран, а также рассматриваются ключевые эпизоды встреч советских и иностранных шахматистов.
Историографическая наполняемость подобной темы должна состоять из трёх крупных блоков (компиляций) литературы в соответствии с тематикой и объектом исследования. Первая группа литературы сосредотачивает в себе работы по теории и практике спортивной дипломатии как отрасли международных отношений. Исследования преимущественно носят
Статьи
политико-социологический, историко-политологический или историко-социологический характер с разноплановым объектным ориентированием, базирующемся на тех или иных теоретико-методологических принципах. Действительно научные исследования в этом плане появляются за границей с конца 1970-х гг. Одним из первых был Б. Лоу2, позднее выходят работы Л. Эллисона3 и Б. Хоулихана4. В последние годы стимул развитию этой темы придают такие крупные исследователи, как С. Мюррей5 и Дж.С. Роф6. Работы сходятся в целеполагающем основании и рассматривают особенности вывода национального спорта на международную платформу в совокупности с политическими задачами отдельных государств, определенными свойствами общественной конъюнктуры, а также влиянием государственной идеологии и господствующей парадигмы на трансформацию спортивного движения и т.п. В отечественной научной среде развитие изучения спортивной дипломатии началось лишь к середине 2000-х гг. Многие из них пытались качественно переработать теоретическую базу иностранных исследователей, выстраивая канву повествования через призму причин и последствий политизации спорта, как, например, М.Ю. Прозуменщиков7. Постепенно исследования интенсифицируются вокруг гуманистических и социальноинтеграционных функций спорта (С.Е. Мартыненко8, В.И. Столяров9 М.М. Орешкин10). Одним из фундаментальных отечественных исследований являются работы Н.М Боголюбовой11, которая вывела имеющиеся теоретические и методологические концепции на новый уровень, предприняв попытку, во-первых, проследить исторический путь развития спортивной дипломатии, во-вторых, выявить структуру и особенности её функционирования, в третьих, определить взаимоотношение спортивной и публичной дипломатий между собой. В.А. Корнеева12 и А.О. Наумов13 подходили к изучению данных процессов, выводя на первый план фактор «мягкой силы» спортивной дипломатии, а также её имиджеобразующие качества.
Второй блок состоит из работ историко-спортивной тематики, которые сосредоточены на изучении развития физической культуры и спорта в общеисторическом или
Статьи
общетеоретическом ключе. Если рассматривать работы в хронологически-поступательном развитии, более ранними являются исследования С.Л. Аксельрода14, А.Д. Деметера15, Д.А. Крадмана16, Н.П. Новоселова17, Ф.И. Самоукова18. Деметером и Крадманом анализировался период 1930-х гг., связанный, в данном случае, с распространением идей социалистического строительства и сталинской модернизации в симбиозе с общественносоциальной средой. Аксельрод и Самоуков предпринимали попытки написания полноценной монографии по истории спорта в СССР, разрабатывая методы системного подхода в истории спорта, одним из аспектов которых стало изучение развития советского спорта в международной сфере. Для многих историков 1960–1970-х гг. спорт и физическая культура виделись полноценным духовно-культурным компонентом в развитии советского общества, как нормирующий фактор и определенный регулятор общественных отношений (В.Д. Алехин19, Н.А Макарцев20, П.С. Степовой21, Г.Д. Харабуга22). Особенно подробно изложена данная концепция Степовым, который подходит к изучению данного вопроса с точки зрения индетерминизма и контингентной философии. В.Н. Уваров23 рассматривал историю спорта через основы спортивной институционализации, как сущность организационного управления, которая связывает все отделения между собой, исторически обуславливая те или иные особенности управления. В 2000-х гг. основными «модуляторами» научной мысли становятся труды Д.С. Деметера24 и В.В. Столбова25. Авторы являются приверженцами системного-комплексного подхода, выискивая взаимозависимость общественных и политических физкультурно-спортивных явлений в разрезе исторического процесса. Б.Р. Голощапов26 подходит к изучению истории спорта через призму теории общественных закономерностей и индивидуализирующих принципов развития физической культуры и спорта. М. О’Махоуни27 в своей работе сосредотачивается на изучении государственной пропаганды в отрасли спорта, её основных форм и методов, влиянии СМИ и карикатуристики на общественное сознание. Развитие спорта в СССР автор рассматривает через призму описательного подхода, находя общие и различные черты в мировом спортивном движении.
Статьи
Третий блок литературы включает в себя преимущественно непрофессиональные и полупрофессиональные исследовательские работы исторического плана, повествующие о развитии шахматного спорта в СССР, которые характеризуются преобладанием фактологического и эмпирического материала, что позволяет использовать их одновременно и как исторический источник. Эта группа представлена трудами историков шахмат, шахматных литераторов и спортивных журналистов прошлых лет. Одной из первых фундаментальных работ в данной области следует считать работу М.С. Когана28. Интерес представляет его обзор и оценка внешнеполитического взаимодействия профессиональных спортивных органов в плане межнационального сотрудничества в спортивной сфере. Монография Н.И. Грекова29 посвящена описанию международных и советских шахматных состязаний, дается многообразное описание условий организации и проведения матчей в разные хронологические отрезки, собран и систематизирован таблично-статистический материал. К концу 1980-х гг. выходит монография Я.Н. Длуголенского,30 став за долгое время одним из лучших исследований по истории шахмат. Несмотря на то, что оно больше сосредоточено на изучении эволюции шахматного движения в пределах одного европейского центра РСФСР, довольно часто Длуголенский выходит за эти рамки и рассматривает развитие спортивного шахдвижения в объективе общесоветского и международного масштабов. Одним из последних выходит исследование Ю.Л. Авербаха31, повествующее о культивации советского шахматного спорта в разные хронологические отрезки. Авербах выделяет определенные переходные исторические вехи, особенно внимательно отслеживая успехи советских спортсменов за границей.
Источниковую базу исследования представляют преимущественно материалы периодической печати, а именно, специализированные советские спортивные газеты и журналы: «Красный спорт», «Физкультура и спорт», «64. Шахматы и шашки в рабочем клубе», «Шахматы в СССР»; иностранная спортивно-шахматная пресса «Stratégie», «Wiener Schachzeitung», «L'Echiquier», «Schackvärlden» и др. Группа нарративных источников представлена воспоминаниями шахматных спортсменов (М.М. Ботвинник, Н.М. Зубарев, М.С. Флор, М. Эйве т др.), шахматных литераторов (Ю.Л. Авербах, Я.Г. Рохлин, Н.И. Греков), руководителей и сотрудников отделов и секций шахматно-шашечной организации (С.О. Вайнштейн, В.Е. Еремеев, А.Ф. Ильин-Женевский, Н.В. Крыленко), принимавших непосредственное участие в событиях. Помимо этого, используются нормативно-правовые документы ВСФК СССР, принятые постановления всесоюзных шахматно-шашечных съездов, опубликованных на страницах правительственных и местных изданий. Впервые в научный оборот вводятся доклады председателя шахсекции ВСФК СССР Н.В. Крыленко и председателя шахсекции ВЦСПС П.Ф. Никифорова на проходившем VII Всесоюзном шахматно-шашечном съезде в Москве в октябре 1931 г., а также информационный сборник, подготовленный специальной комиссией шахматного Оргкомитета, раскрывающий детали подготовки и организации II Международного турнира 1935 г. в Москве.
Статьи
К началу 1930-х гг. в СССР отсутствовала стройная система руководства спортивным движением страны. На смену Всевобучу в 1923 г. пришёл Высший совет физической культуры (ВСФК), который не решил до конца проблемы параллелизма между различными спортивными ведомствами и отделениями страны. Часть полномочий делилась между другими госструктурами, такими как Наркомпрос и Политпросвет, вследствие чего в организационном плане наблюдался некоторый сумбур32. Ввиду активизации курса «социалистического строительства» в стране и расширения командно-административных методов управления произошла организационная перестройка спортивно-управленческой конструкции. В 1930 г., по решению Президиума ЦИК, ВСФК вошёл в прямое подчинение Правительства СССР, став высшим государственным органом, регулирующим всю спортивную политику в стране33. После этого сложилось единое централизованное устройство государственного заведования спортивно-физкультурным движением страны, которое не менялась вплоть до 1991 г., за исключением единичных случаев.
Шахматно-шашечная структура в институционном плане, напротив, отличалась некой иерархической монолитностью с вполне четкими формами соподчинения. Высшим звеном управления на уровне республик являлись шахсекции при ВСФК, которые в свою очередь подчинялись Совету шахсекций союзных республик. Однако Совет являлся больше межведомственным регулятивным, нежели действительно правоустанавливающим органом, координирующим деятельность шахсекций различных ведомств и организаций. Возглавлял шахсекцию Президиум из 7–13 человек, председатель и секретарь которого назначались Советом физкультуры, а остальные члены секции избирались от различных шахматных организаций (профсоюзов, ОНО, военного и морского ведомств, Динамо и ВЛKCM), ведущих свою работу в своих учреждениях и предприятиях. Из части Президиума и отдельных руководителей шахматно-шашечной работы составляется Исполбюро шахсекции ВСФК, отвечавшее за резолютивную и исполнительную часть34. В совете профсоюзов и крупных отделах союзов существовали культотделы, при которых создавались отдельные шахбюро (шахкомиссии) для руководства внутренней практической деятельностью профсоюзов и иных общественных неправительственных организаций35. Практически вся международная работа ложилась «на плечи» Шахкомиссии ВЦСПС36, которая не могла в полной мере реализовать весь потенциал как орган внешнеполитических сношений в силу своего профессионального назначения. Инициатива обычно исходила от местных профсоюзных организаций, предпочитавших самостоятельно налаживать связи с иностранными представителями в форме шахматных переписок, телеграфных матчей, профессионального обмена опытом. Такие частные случаи отнюдь не способствовали укреплению «тесной классовой революционной связи с международным ш/ш пролетарским
Статьи
движением», как того хотели высшие инстанции и правительство37. Эти проблемы признавались, но их разрешение шло «со скрипом». Не раз обсуждался вопрос о создании специального органа, наподобие Бюро международной связи, которое бы смогло грамотно организовать всю международную работу, однако такой орган так и не был организован38. Исполбюро ВСФК и Президиум шахсекции решили вместо этого интенсифицировать работу по линии ВЦСПС, и так перегружая её широкий функционал, что снижало общий процент продуктивной деятельности.



Общая схема устройства Всесоюзной шахсекции к началу 1930 г.
(на основе: Еремеев В.Е. Спутник шахматиста. М., 1932; Коган М.С. Очерки по истории шахмат в СССР М.; Л., 1938;
Коган М.С. Словарь шахматиста. Л., 1929).
Статьи
Следует сказать и о таком объединении, как Красный спортивный интернационал (КСИ), организованный в 1921 г. КСИ должен был взять на себя консолидационную миссию среди иностранных спортивных обществ, основную массу которых составляли выходцы из рабочих и горожан, придерживающихся идей культивации спортивно-физической активности, с целью включения их в революционную среду39. КСИ позиционировался как полностью автономное сообщество, но на самом деле учреждение находилось в прямой зависимости от Коминтерна и было лишено своей самостоятельности40. Таким образом, КСИ, с одной стороны, стоял особняком в структуре спортуправления, с другой стороны, должен был напрямую коррелироваться различными спортивными органами внешних сношений, и в частности с шахсекцией ВЦСПС. В действительности практически никакой межведомственной коммуникации между ними не существовало.
В начале 1930-х гг. проявление шахматной дипломатии как специального средства построения международной коммуникации не так ярко выражено. Фактически шахматный спорт хоть и развивался в духе политической программы партии, но его практическая значимость как инструмента международной политики ограничивалась теми максимами, которые ещё в 1920-х гг. в него заложил Н.В. Крыленко. С 1924 по 1938 г. он являлся неизменным руководителем советского шахдвижения и координатором всей шахматношашечной работы в стране, занимая при этом высокие должности в правительстве (в 1929– 1931 гг. – прокурор РСФСР; в 1931–1938 гг. – народный комиссар юстиции РСФСР)41. Являясь приверженцем идеи политизации всех форм культурно-общественной жизни и подчинения её интересам государства, ещё в середине 1920-х гг. на одном из собраний Всесоюзного шахматного съезда Н.В. Крыленко выдвинул лозунг об использовании шахматного спорта в целях политической борьбы внутри и вне пределов страны, осуждая любые проявления аполитичности в спорте42. В совокупности весь советский шахматный спорт стал выступать как идеологический ретранслятор политической позиции Крыленко, что и определяло вектор организационной работы всех шахматно-шашечных органов. В вопросе международного шахдвижения у Н.В. Крыленко прослеживался некий дуализм во взглядах. С одной стороны, он не признавал никакого сотрудничества с «буржуазными» шахорганизациями, при этом контакты с иностранными шахматными мастерами, входящими в эти организации, поддерживал и даже поощрял, но только с санкции Красного Спортинтерна, а следовательно, и Коминтерна43. На очередном VII Всесоюзном шахматном съезде в октябре 1931 г. в порядке дискуссии были составлены и обнародованы задачи советского шахдвижения на ближайшие годы. Настоящую международную работу Шахсекции ВЦСПС и Исполбюро ВСФК Н.В. Крыленко подверг суровой критике, характеризуя её как «недостаточно последовательную», в ходе прений начинаются попытки реформации
Статьи
дипломатического курса, которого должны будут придерживаться органы внешних сношений44. Широко обсуждался вопрос о расширении взаимоотношений с иностранными шахорганизациями капиталистического плана, но Шахсекция ВЦСПС отвергла любые формы построения органической связи между «рабочими» и «буржуазными» структурами45. Исполбюро ВСФК тем не менее отстоял идею о том, что контакты с такими организациями могут быть осуществимы, если только это вызвано особыми условиями и не наносит вреда пролетарскому шахматно-шашечному движению46. Основное же направление, к которому было привлечено наибольшее внимание, заключалось в расширении сотрудничества между странами «пролетарского толка» и налаживании отношений через «рабочие ш/ш организации». Характер взаимоотношений определялся в рамках «интернациональной работы» посредством связи с революционными «рабочими организациями» и организациями, сочувствующими рабочему движению, базировавшимися в разных странах47. Эта связь обеспечивалась играми по переписке и телеграфу, обменом литературы, перепиской с иностранной рабочей печатью, организационной работой среди иностранных рабочих48. Кроме того, Президиумом ЦИК СССР к кануну окончания первой пятилетки, в 1933 г., было утверждено проведение на территории Советского Союза международной рабочей спартакиады. В связи с этим организациям предписывалось уделить особое внимание собственной работе с целью подготовки в этих же рамках к I Международному рабочему шахматному турниру49, которого, забегая вперед, так и не произойдет.
Стоит ещё напомнить, что с 1924 г. в мире функционировала такая спортивная организация, как ФИДЕ (FIDE, от фр. Federation Internationale des Echec), или Международная шахматная федерация, которая создавалась с целью коммуникационного объединения различных национальных шахматных руководящих органов. Кроме того, в её ведении находилась организация и руководство соревнований и турниров международного уровня50. К началу 1930-х гг. Федерация объединила под своим началом более 20 стран и несколько раз направляла предложения о сотрудничестве в СССР. Однако советская шахматная организация отвечала данной ассоциации категорическим отказом и на протяжении нескольких десятков лет бойкотировала все чемпионаты, которые проводились под эгидой ФИДЕ. Единственным международным объединением, с которым к тому времени сотрудничал СССР, был Рабочий Шахинтерн – международное содружество шахматистов из рабочей среды, придерживающееся идеи классовой борьбы и становления международного рабочего движения51. Помимо СССР, в него входили: Германия, Австрия, Швейцария, Чехословакия, Дания, Латвия и др.52 К началу 1930-х гг. в Германии (где и базировался главный штаб Шахинтерна) возникает, впоследствии быстро набравший популярность в
Статьи
спортивной среде, Люцернский спортинтерн, возглавляемый представителями социал-фашисткой идеологии, настроенных антикоммунистически, в который вошёл и Германский рабочий шахматный союз. В короткие сроки объединение собрало большое количество единомышленников и вступило в прямую конфронтацию с Советским Союзом. Произошло это накануне 3-го рабочего съезда Шахинтерна, который должен был пройти в Москве53. Один из кураторов внешнеполитической работы Шахсекции ВЦСПС, являвшийся также консульским должностным лицом в Латвии, А.Ф. Ильин-Женевский, после поездки в Германию в 1932 г. отмечал: «Советская шахматная организация, разумеется, не осталась безучастной к разгрому своих политических друзей … Отныне Шахинтерн, как организация, объединяющая рабочих-шахматистов всех направлений, стоящих на платформе классовой борьбы, перестал существовать … Конечно, с таким шахобъединением Советской шахматной организации было не по пути»54. Фактически Ильин-Женевский как представитель советской Шахсекции назвал Германский рабочий шахматный союз «предателями рабочего класса», а советская шахматная организация разорвала с ним всякие отношения. В конце 1933 г. Шахинтерн был запрещен и упразднен.
После выхода из Шахинтерна в Ленинграде в короткие сроки был собран экстренный импровизированный шахматный конгресс, который рассматривал вопрос создания альтернативного международного центра пролетарского шахматного движения, который бы функционировал через центральную линию шахматной секции при Красном Спортинтерне. По задумке, все революционные «рабочие» иностранные шахматные организации должны были вступить в «Красный спортинтерн», который в кратчайшие годы объединил бы «все лучшие силы международного рабочего шахдвижения»55. Однако дальнейшего развития эта идея не получила, хотя потенциально имела положительные шансы на реализацию. Основные силы на продвижение своего международного спортивного имиджа и построения внешнеполитических отношений были брошены на проведение и участие в спортивных соревнованиях и чемпионатах.
В период с 1930 по 1933 г. советской шахматной организацией было устроено всего лишь несколько очных и телеграфных матчей между ленинградскими шахорганизациями и европейскими рабочими шахматными кружками. Пожалуй, одним из самых главных событий тех лет стало проведение спортивной встречи советского и чешского шахматных представителей. Встреча сразу стала предметом интереса спортивных иностранных журналов56. В конце 1933 г. к советнику посольства СССР в Праге А.Ф. Ильину-Женевскому явился тогдашний чемпион Чехословакии С.М. Флор и бросил формальный вызов молодому чемпиону Советского Союза М.М. Ботвиннику. На тот момент С.М. Флор являлся одним из сильнейших шахматистов мира и лучшим европейским шахматистом по результативности57. В истории организации этого матча осталось несколько «белых пятен». Так, не до конца
Статьи
известно, была ли эта встреча запланирована изначально или все же являлась спонтанным проявлениям спортивного любопытства С.М. Флора. Советское руководство, в свою очередь, очень заинтересовалось данной ситуацией, вследствие чего, по замечанию Еремеева, у Н.В. Крыленко на руках была личная депеша от Наркома иностранных дел М.М. Литвинова о предоставлении ему необходимых полномочий для проведения этой встречи58. Однако опубликованного источника подтверждения этих слов не имеется.
Сам международный товарищеский матч игроков проходил с 28 ноября по 19 декабря 1933 г. и состоял из 12 партий. Первая часть матча проходила в Колонном зале московского Дома Союзов, а вторая – в Большом зале Ленинградской консерватории59. В итоге встреча закончилась ничейным счетом – 6:6. После матча Флор дал небольшое интервью, в котором отмечал высокие профессиональные навыки советских шахматистов и систему организации турнира, что намекало на более дружелюбный характер встречи, чем спортивное противостояние60. Результаты матча оценивались руководством как более чем «приемлемые», и главами шахсекций было принято решение о командировании наиболее показательных мастеров за границу61.
Товарищеский матч Флор-Ботвинник стал своего рода триггером, запустившим процесс развертывания активной шахматной внешней политики. Однако имелись и более конкретные причины. Мировая остановка становилась все более напряжённой, всерьез вставала проблема противодействия фашизму как общемировой угрозе. В этом ключе на различных пленумах ВКП(б), ИККИ и конгрессах Коминтерна начинается зарождение идей создания системы коллективной безопасности, а также стремление убеждения ведущих европейских держав в необходимости концентрации общих усилий.
В 1934 г., по личному приглашению Н. Крыленко, в СССР прибыли ещё несколько иностранных шахматных представителей мирового класса – голландский гроссмейстер М. Эйве вместе с австрийским мастером Г. Кмохом. Шахматисты посетили Москву, Ленинград, Крым, Севастополь, Ялту и Одессу, участвуя в различных турнирах, читая лекции, давая сеансы одновременной игры и просто общаясь с советской молодежью62. В интервью, опубликованном тогда же в газете «Красный спорт», М. Эйве сказал, что «такие отличные шахматисты, как Романовский, Рюмин, Алаторцев, Рабинович, являются мастерами международного класса», а М. Ботвинник, по его мнению, входит в десятку лучших шахматистов мира63.
В международном шахдвижении, по сравнению с предыдущим периодом, теперь на первый план выходят антифашистские принципы построения сотрудничества. Так, совместно с КСИ и Коминтерном советская шахсекция в августе 1934 г. планировала провести в Париже антифашистский спортивный слет, в регламенте которого указывалось, что будет проведено несколько открытых шахматных турниров и соревнований, среди которых: турнир мастеров, турнир любителей и командный турнир стран. Отмечалось, что на антифашистский слет
Статьи
смогут приехать все лица, поддерживающие данную международную акцию. Между тем, ни о каких классовых разногласиях в шахматной печати не говорилось, и предполагалось, что в турнирах примут участие шахматисты из разных стран. Согласно мнению Исполбюро ВСФК, это позволит придать слету действительно мировой масштаб64.
В турнирном плане советская шахматная элита продолжала доминировать на крупнейших турнирах международного уровня, ежегодно проводившихся в Брюсселе, Вене, Гастингсе, Гетеборге, Карлсбаде и других крупных европейских городах. Практически во всех из них советские шахматисты занимали высшие строчки рейтинга. Имена М. Ботвинника, Г. Левенфиша, И. Рабиновича, Н. Рюмина, Ф. Богатырчука, У. Чеховера, А. Моделя, В. Рогозина, В. Алаторцева, Г. Лисицына и другой советской шахматной молодежи постепенно становились все известнее в европейских кругах. Благодаря их успешным победам, имидж и престиж отечественной шахматной школы неуклонно повышался в международном пространстве65. Растущие успехи советских шахматистов во встречах с иностранными гроссмейстерами дали возможность поставить на рассмотрение вопрос Президиуму ВСФК о назревшей необходимости проведения большого международного турнира в Москве, чтобы дать возможность шахматным мастерам СССР выйти на более широкую международную арену, а также повысить интерес европейских стран к СССР, являя принципы «открытости» и «добрососедства», готовности к любой форме диалога.
Решение об организации II Московского международного турнира быстро было утверждено ВСФК СССР. Сам турнир планировалось провести в феврале 1935 г.66 При шахсекции ВЦСПС создавался временный Оргкомитет, в ведение которого входили задачи по привлечению иностранных участников. В короткие сроки Оргкомитет направил более 30 приглашений представителям различных государств. Положительные ответы поступили со стороны Х.Р. Капабланки (Куба), Эм. Ласкера (Австрия), С.М. Флора (Чехословакия), А.А. Лилиенталя (Венгрия), В. Пирца (Югославия), В.Ф. Менчик (Англия)67. Как отмечает С.О. Вайнштейн, «многие из остальных иностранцев – будущих участников турнира сами проявили инициативу и прислали руководителям советской шахматной организации сообщения о своем желании участвовать…»68. Кроме перечисленных выше мастеров, приглашение было послано Г. Штальбергу (Швеция) и М. Эйве (Нидерланды), которые так и не смогли приехать69. Рассматривались также кандидатуры Э. Элисказеса (Аргентина), В. Микенаса (Латвия), И. Каждена (США). Особенно желательным было участие американского гроссмейстера как представителя потенциального союзника по системе коллективной безопасности, но И. Кажден и остальные проигнорировали приглашение70.
II Московский международный турнир проводился с 15 февраля по 15 марта 1935 г. при участии 20 мастеров. Проведению и организации турнира было отведено существенное внимание. Почетным председателем судейского комитета был секретарь ЦИК СССР
Статьи
А.С. Енукидзе71, курировал финансовое обеспечение мероприятия председатель Комиссии советского контроля Н.К. Антипов72. Проведение осуществлялось по высшему разряду: часть помещений для игр арендовались у Музея изящных искусств в Москве, другая часть помещений бронировалась на дни проведения матча у ресторана «Метрополь»; выкупались несколько этажей «Новомосковской» гостиницы для размещения участников; организовывался проезд на специальных такси к месту проведения турнира; проводилась широкая культурно-развлекательная программа и т.д.73 В целом, вокруг II Московского международного турнира сосредоточилось существенное внимание общественности, но концентрировалось оно широко только среди советского населения. Зарубежные спортивные СМИ практически не писали о турнире или упоминали о нем лишь мельком74. Несмотря на то, что шахматно-шашечным руководством результаты данного события оценивались крайне положительно, в дипломатическом отношении турнир не имел особого значения.
Под влиянием общенародного оживления в советском информационно-культурном поле (по замечанию одного из организаторов М.Н. Зубарева, ежедневный наплыв зрителей матча составлял от 3 000 до 4 500 человек)75 Совет шахсекций решил в короткие сроки провести III Московский международный турнир весной-летом 1936 г.76 В итоге матч был проведен, но, по сравнению с двумя предыдущими эпизодами международных встреч, имел совершенно незначительное влияние и практически не «мелькал» даже в советской прессе. Можно сказать, что уже после II Международного турнира шахматная дипломатия исчерпала себя. Перспективы её использования, действительно оцененные в 1933 г., не смогли полностью реализоваться. Однако во многом это было связано с её эскортирующим эффектом и зависимостью от общего вектора традиционной дипломатии. Пик развертывания советской программы по созданию системы коллективной безопасности в 1933–1935 гг., а также вступление СССР в Лигу Наций в 1934 г. позволило Советскому Союзу проводить более последовательную политику в отношении потенциальных союзников на основе принципа конформности всех перед всеми. Соответственно наибольший подъем международной шахматной работы приходится на этот период, а после него начинается постепенный процесс спада, хотя в спортивной прессе и шахматных журналах никак не отмечалось сокращение эпизодов встреч иностранных и советских шахматистов. К концу 1937 г. шахматисты из СССР смогли похвастаться своими выступлениями лишь в двух международных матчах, проведенных в Ноттингэме и Гастингсе77. В 1938–1939 гг. тенденция спада активности в развитии шахматной дипломатии становится более явной.
К этому времени в стране начинают усиливаться административно-репрессивные меры, происходит ужесточение по идеологической линии. В 1937 г. Всеосюзная шахсекция
Статьи
приняла постановление «О мероприятиях по оздоровлению и очистке шахматно-шашечных организаций от классово-враждебных, случайных и разложившихся элементов и поднятию уровня политической грамотности, культурного развития и активного участия в общественнополитической жизни высококвалифицированных шахматистов (шашистов)»78. Начало чистки партийных рядов затронуло практически всю систему общественных отношений. Половина президиума Всесоюзной шахсекции, избранного в 1936 г., была репрессирована в 1937-м79. В прессе их в основном обличали в недооценке классовой борьбы и игнорировании политико-воспитательной работы на местах80. В 1938 г. репрессиям подверглись представители шахматно-шашечной организации, в их числе члены Исполбюро шахсекции ВСФК В.И. Фридберг, Р.К. Шукевич-Третьяков, а также непосредственный председатель шахсекции при ВСФК Н.В. Крыленко81. Структура шахматно-шашечного управления оказалась практически «обезглавленной», из-за чего она вошла в продолжительный период стагнации.
Таким образом, мы можем свидетельствовать, что в Советском Союзе в 1930-е гг. действительно произошло складывание шахматной дипломатии как формы международной коммуникации, в то время как само направление спортивной дипломатии только начинает формироваться в общемировой практике. Конечно, как мы смогли заметить, продуктивность шахматной дипломатии оставляла желать лучшего. Это было связано как с проблемами в институциональном, так и в целеполагающем планах. Главенствующую роль играли изменения приоритетов внешней политики СССР. Отсутствие специализированных ведомств по внешнеполитической работе Всесоюзной структуры шахсекции не позволило им выйти на более высокий уровень построения профессиональных отношений между представителями спортивной общественности разных стран. Несмотря на то, что шахматная дипломатия развивалась под воздействием дипломатического курса, взаимосвязь между ними не всегда была очевидной. Происходили одноразовые «всплески» интереса, которые, впрочем, быстро сменялись отношением отрешенности. С одной стороны, это было обусловлено отсутствием практического опыта использования подобных форм международной коммуникации, с другой стороны, изменениями общего курса дипломатической политики СССР. Тем не менее международная шахматная работа позволила в 1930-е гг. выйти советскому шахдвижению на общемировое пространство. Благодаря данной экспериментальной практике, СССР стал первой страной, осуществлявшей политику межгосударственной интеграции в шахматной сфере. Опыт шахматной дипломатии 1930-х гг. позволил СССР в дальнейшем занять ведущие позиции в деле развития шахматного спорта в мире.
- 73 -
Список литературы ШАХМАТНАЯ ДИПЛОМАТИЯ СССР В 1930-е ГОДЫ
- 64. Шахматы и шашки в рабочем клубе. – Л., 1924, 1931, 1932, 1934, 1935.
- Абрамов Л. И. Шахматы: Энциклопелический словарь // Советская энциклопедия / под ред. А. Е. Карпова. – М., 1990. – 621 с.
- Авербах Ю. Л. О чем молчат фигуры. – М.: РИПОЛ классик, 2007. – 309 с.
- Аврус А. И. Малоизвестная страница истории международного рабочего спортивного движения (Шахинтерн). – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1994. – С. 77-86.
- Боголюбова Н. М. Спорт в палитре международных отношений: гуманитарный, дипломатический и культурный аспект. – СПб.: Изд-во СПБГУ, 2011. – 320 с.
- Ботвинник М. М. Матч Флор–Ботвинник: Партии матча с предисл. Н В. Крыленко. – М.; Л.: ОГИЗ «Физкультура и туризм», 1934. – 112 с.
- Ботвинник М. М. Советская шахматная школа. – М.: Физкультура и спорт, 1951. 72 с.
- Вайнштейн С. О. Международный шахматный турнир Москва 1935: Материалы к турниру. – Л.: Физкультура и туризм, 1935. – 61 с.
- Второй международный шахматный турнир. Москва. 1935: Партии турнира // Физкультура и туризм / отв. ред. Н. В. Крыленко. – М.; Л., 1936. – 592 с.
- Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 312 с.
- Греков Н. И. История шахматных состязаний. – М.: Физкультура и туризм, 1937. – 190 с.
- Гродзенский С. Я. Лубянский гамбит. – М.: Терра-Спорт; Олимпия Пресс, 2004. – 285 с.
- Длуголенский Я. Н. Люди и шахматы: Страницы шахматной истории Петербурга – Петрограда – Ленинграда. – Л.: Лениздат, 1988. – 253.
- Еремеев В. Е. Первые шаги (На заре советских шахмат). – М.: Союз спортивных о-в и организаций РСФСР. Всерос. шахматный клуб, 1968. – 40 с.
- Еремеев В. Е. Спутник шахматиста. Л.; М.: ОГИЗ «Физкультура и туризм», 1932. – 225 с.
- Задачи шахматно-шашечного движения: Доклады тт. Крыленко и Никифорова на VII Всес. шахматно-шашечном съезде : (Москва 20-30 окт. 1931 г.) : С прил. принятых на Съезде резолюций. – Л.; М.: ОГИЗ «Физкультура и туризм», 1932. – 64 с.
- Ивкин В. И. Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители, 1923-1991. – М.: РОССПЭН, 1999. – 637.
- Коган М. С. Очерки по истории шахмат в СССР. – М.; Л.: Физкультура и спорт, 1938. – 392 с.
- Коган М. С. Словарь шахматиста // Шахматный листок / под ред. А. А. Смирнова. – Л., 1929. – 518 с.
- Красный спорт. – М., 1933, 1934, 1936.
- Леонтьев Е. Д. спортивная дипломатия в системе современных межгосударственных отношений // Общественные науки. – 2021. – № 2 (843). – С. 91-100
- Первый пленум Всесоюзного совета физической культуры 6 апреля 1930 г. Москва – Кремль (б). Стенографический отчет. – М.; Л., 1930. – 125 с.
- Попов А. Спортивная дипломатия как инструмент внешней политики и фактор «мягкой силы» : дис. … д. полит. наук. – Кишинэу, 2021. – 157 с.
- Постановление от 3 апреля 1930 года о Положении Всесоюзного совета физической культуры. СЗ СССР 1930 г. № 21, ст. 233.
- Симонов Е. Д. Человек многих вершин: Николай Васильевич Крыленко. (1885-1938). – М.: Физкультура и спорт, 1969. – 192 с.
- Физкультура и спорт. – М., 1931, 1934, 1935.
- Филиппов А. Н. Международные контакты советского спорта в 1920-х – 1930-х: противостояние красного и люцернского спортинтернационалов // Научно-методический журнал. – 2012. – Т. 18, № 1. – С. 338-341.
- Хорошева А. В. Деятельность Красного спортивного интернационала в конце 1920-х - начале 1930-х гг. // История. – 2018. – № 5. – С. 86-105.
- Шахматный листок. – Л. 1924.
- Шахматы в СССР. – Л., 1932, 1935, 1937.
- Ceskoslovensky Sach. – Praha, 1933, 1935.
- L'Echiquier. – Bruxelles,1935.
- Schackvärlden. – Stockholm, 1933.
- Schweizerischen Schachzeitung. – Bern, 1933.
- Stratégie. – Paris, 1935.
- Wiener Schachzeitung. – Warszawa, 1933, 1935.