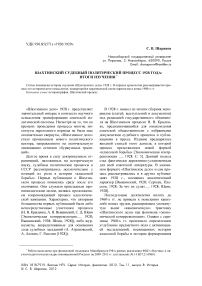Шахтинский судебный политический процесс 1928 года: итоги изучения
Автор: Шарапов Сергей Валерьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 8 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории изучения «Шахтинского дела» 1928 г. В порядке хронологии рассматривается процессегоисторическогоосмысления, подвергшийся кардинальнойсмене парадигмы в конце 1980-х гг.
Историография, шахтинский процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/14737913
IDR: 14737913 | УДК: 930.85(571)
Текст научной статьи Шахтинский судебный политический процесс 1928 года: итоги изучения
«Шахтинское дело» 1928 г. представляет значительный интерес в контексте научного осмысления трансформации советской политической системы. Несмотря на то, что ко времени проведения процесса многие институты переходного периода не были еще окончательно свернуты, «Шахтинское дело» стало проявлением нового политического вектора, направленного на окончательную ликвидацию остатков «буржуазных традиций».
Долгое время в силу доктринальных ограничений, наложенных на историческую науку, судебные политические процессы в СССР рассматривались исключительно с позиций их роли в истории «классовой борьбы». Первые публикации о Шахтинском процессе появились сразу после его окончания. Они служили прикладным пропагандистским целям, являясь продолжением сопровождавшей процесс идеологической кампании. Характерно, что авторами большинства первых публикаций были либо непосредственные участники процесса (Н. В . Крыленко , А. Я. Вышинский, С . Д. Шеин [Экономическая контрреволюция…, 1928; Вышинский, 1928; Шеин, 1928]), либо журналисты, аккредитованные для освещения хода судебных заседаний (А. Аграновский, А. Алевич, Г. Рыклин [1928]).
В 1928 г. вышел из печати сборник материалов (статей, выступлений и документов) под редакцией государственного обвинителя на Шахтинском процессе Н. В. Крыленко, предназначавшийся для ознакомления советской общественности с избранными документами судебного процесса и публикациями в прессе. Издание предварялось вводной статьей этого деятеля, в которой процесс представлялся новой формой «классовой борьбы» [Экономическая контрреволюция …, 1928. С. 5]. Данный подход стал фактически директивно-установочным для всей советской литературы. В указанном формате «Шахтинское дело» и сам процесс рассматривались и в других публикациях 1928 г., носивших аналитический характер [Вышинский, 1928; Сергеев, Плесков, 1928; За что их судят…, 1928; Шеин, 1928].
Последующие десятилетия вплоть до 1960-х гг. не привели к появлению каких-либо новых трудов, расширяющих упомянутую выше «каноническую» трактовку «Шахтинского дела» как феномена «экономической контрреволюции». Однако с середины 1960-х гг. произошло определенное углубление предметного поля с активизацией исследований, посвященных истории классовой борьбы и истории формирования советской интеллигенции, когда исследователи обратились к оценкам места и последствий данного громкого политического дела.
Советские историки 1960-х – 1980-х гг. хотя и не выходили за рамки установленной парадигмы, по-прежнему подчеркивая классовую подоплеку феномена «экономической контрреволюции», но начинали осваивать и оценивать другие аспекты процесса – юридический, внешнеполитический, социально-культурный [Голинков, 1978; Федюкин, 1972; Иванов, Чернопицкий, 1971; Трифонов, 1960. С. 152–153].
Альтернатива доминировавшему в советской историографии классовому подходу проявилась в работах А. Г. Авторханова и А. И. Солженицына. Оба автора пришли к заключению, что «Шахтинское дело» было от начала и до конца сфабриковано органами ОГПУ. Результатом его, по мнению А. Г. Авторханова, явилась не только дискредитация будущих противников Сталина из «правой оппозиции», но и то, что Сталин нашел «ключ» к публичному уничтожению даже мнимых врагов – в виде той «следственной техники», которая применялась по отношению к «шахтинцам» [1991].
В свою очередь, А. И. Солженицын сделал вывод, что это был «бесконфликтный судебный процесс, где к единой цели стремились дружно и суд, и прокурор, и защита, и подсудимые» [1999. С. 382]. Недоступность источников, однако, не позволяла диссидентам обосновать свои оценки. Тем не менее ценность их публикаций заключалась в прорыве информационной блокады, выстроенной официальной пропагандой вокруг этого политического процесса.
Радикальная трансформация исторических концепций со второй половины 1980-х гг. стимулировала интерес к политическим судебным процессам 1928–1931 гг. В 1989 г. увидела свет статья Е. Ефимова и Ю. Щети-нова, посвященная трем процессам над «старой» интеллигенцией – «Шахтинскому», «Промпартии» и «Союзному бюро меньшевиков». Названные авторы пришли к выводу, что под прикрытием публичных судебных процессов предпринималась попытка списать хозяйственные трудности на «буржуазное вредительство» [1989]. Этот подход разделяли практически все авторы, писавшие о «Шахтинском деле» в перестроечной и постсоветской России (см.: [Стар- ков, 1990; Куманев, 1991; Ковалев, 1995] и др.).
Критерию научного исследования в настоящий момент в достаточной степени отвечает лишь опубликованная в 1992 г. работа С. А. Кислицына, основанная на документах Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) в сочетании с опубликованными в прессе репортажами о ходе судебного процесса и другими материалами, связанными с ним. Автор особое внимание уделил подготовке и организации «Шахтинского дела», а также отношению к нему различных кругов партийной элиты [1993].
Ход проведения процесса был детально изучен в оригинальной работе А. А. Есине-вича. Подчеркивая сценарно-постановочный характер процесса вынесенной в заголовок формулой «Театр абсурда», автор пошел путем анализа открытых источников – подневных репортажей газет того времени. Поочередно описывая каждый день заседаний суда, А. А. Есиневич на основе опубликованного в прессе обвинительного заключения, допросов подсудимых, речей обвинителей и защитников, приговора по Шахтинскому процессу и других материалов реконструировал характерные черты судебного разбирательства, отличавшегося многочисленными оговорами, отказами от признаний, показаниями, противоречащими логике [2004].
Политико-организационную сторону «Шахтинского дела» описывал в своих работах О. Б. Мозохин. На основе архивно-следственных дел и документов Политбюро ВКП(б) исследователь сделал попытку установить основные этапы проработки «Шахтинского дела» специально созданной комиссией Политбюро [2004; 2008а]. Кроме того, он ввел в научный оборот материалы Политбюро, связанные с «немецкой линией» – привлечением к суду немецких инженеров, обвиненных в «экономической контрреволюции и шпионаже» [2008б].
Не осталась без внимания исследователей связь «Шахтинского дела» с усилением в Советском Союзе антиинтеллигентских настроений на рубеже конца 1920-х – начала 1930-х гг. (см.: [Абрамов, 1996; Пыстина, 1994] и др.). Кроме того, изучению подвергся и региональный аспект «Шахтинского дела» – его влияние на положение провинциальной интеллигенции (см.: [Пыстина, 1999; Лютов, 2007] и др.).
Большая работа по выявлению и публикации источников о Шахтинском процессе была проведена сотрудниками Новосибирского института истории, в результате чего были подготовлены два тома документов [Шахтинский процесс…, 2010–2011]. На основе введенных в научный оборот документов появились исследовательские работы, посвященные различным аспектам «Шахтинского дела». Историческому анализу подверглись как организационная составляющая Шахтинского процесса [Красильников, 2009], так и его политический [Красильников, 2011], идеолого-пропагандистский [Ушакова, 2010; 2011; Аблажей, 2011; Шарапов, 2011] и социокультурный контекст [Соскин, 2009].
Таким образом, в историографии «Шахтинского дела» прослеживаются два периода. Первый из них, охватывающий временной отрезок с 1928 по конец 1980-х гг., отличался господством «классового подхода». Для второго периода (со второй половины 1980-х гг.) характерным стало его объяснение политическими мотивами И. В. Сталина и его сторонников. В такой трактовке процесс рассматривался как средство, имевшее целью преодолеть системный кризис власти путем социально-политической консолидации общества на конфронтационной основе с использованием технологий формирования нового образа «врага народа» – «спеца-вредителя».
SHAKHTY TRIAL 1928: RESULTS OF THE STUDY