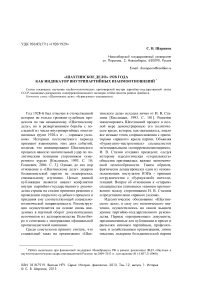"Шахтинское дело" 1928 года как индикатор внутрипартийных взаимоотношений
Автор: Шарапов Сергей Валерьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению идейно-политических противоречий внутри партийно-государственной элиты СССР, вызванных раскрытием «контрреволюционного заговора» в Шахтинском районе Донбасса.
"шахтинское дело", "буржуазные" специалисты
Короткий адрес: https://sciup.org/147218662
IDR: 147218662 | УДК: 930.85(571)
Текст научной статьи "Шахтинское дело" 1928 года как индикатор внутрипартийных взаимоотношений
Год 1928-й был отмечен в отечественной истории не только громким судебным процессом по так называемому «Шахтинскому делу», но и развертыванием борьбы с последней из числа внутрипартийных оппозиционных групп 1920-х гг. – «правым уклоном». Историки постсоветского периода признают взаимосвязь этих двух событий, полагая, что инициирование Шахтинского процесса нанесло значительный удар по политическим позициям сторонников «умеренного курса» [Кислицын, 1993. С. 10; Есиневич, 2004. С. 3]. Однако до сих пор отношение к «Шахтинскому делу» лидеров большевистской партии не подвергалось специальному изучению. Целью данной публикации является анализ конфликтов внутри партийно-государственного руководства страны на стадии принятия решения о проведении открытого судебного процесса и придания ему соответствующей социальнополитической направленности. Реконструкция осуществляется на основе вновь введенных в научный оборот документальных источников из делопроизводства Политбюро в сочетании с материалами официальной пропагандистской кампании.
Среди советологов принято считать, что социальный заказ на организацию «Шах- тинского дела» исходил лично от И. В. Сталина [Кислицын, 1993. С. 101]. Решение инсценировать Шахтинский процесс в полной мере демонстрировало его политическое кредо, которое, как оказывалось, имело все меньше точек соприкосновения с ориентирами «правого» крыла партии. Объявляя «буржуазно-настроенных» специалистов потенциальными «контрреволюционерами», И. В. Сталин создавал прецедент, следуя которому идеологическая «стерильность» общества признавалась важнее экономической целесообразности. Таким образом, фактически дезавуировался один из основополагающих постулатов НЭПа – принцип сотрудничества с «буржуазной» интеллигенцией. Вопрос об отношении к «старым» специалистам становился «камнем преткновения» между сторонниками И. В. Сталина и представителями «правого уклона».
Идеологическое обоснование «Шахтинского дела», в силу его политического значения, осуществлялось на самом высшем уровне партийно-государственного руководства. Первые «программные» документы, предназначенные для публикации в прессе и рассылки низовым партийным, профсоюзным и хозяйственным организациям, лично писались лидерами большевистской партии и проходили скрупулезную редакционную правку с их стороны (в основном Н. И. Бухариным и И. В. Сталиным). Ценность для исследователя представляют содержащие многочисленные пометы и исправления предварительные черновые экземпляры этих публикаций, которые хранятся в делопроизводстве Политбюро и введены в научный оборот в двухтомном документальном издании о Шахтинском процессе [Шахтинский процесс…, 2010].
Наличие нескольких экземпляров таких документов на разных этапах согласования позволяет с помощью текстуального анализа проследить различные оценки причин и последствий «Шахтинского дела» среди партийного руководства. Такого рода разночтения можно обнаружить в выступлениях партийных лидеров на объединенном апрельском пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 1928 г. и по его итогам. Особый интерес в этом плане представляют доклад И. В. Сталина на активе московской организации ВКП(б) об итогах названного пленума 13 апреля 1928 г. 1 и доклад А. И. Рыкова на сессии ЦИК СССР 16 апреля 1928 г. 2
Первые официальные документы, подготовленные в начале марта 1928 г., содержали, с одной стороны, дозированную информацию о промежуточных результатах следствия, а с другой – давали образец идеолого-пропагандистской трактовки «обнаруженного в Донбассе крупного антисоветского заговора». Так, официальное письмо ЦК ВКП(б) «Об экономической контрреволюции в южных районах угольной промышленности» от 7 марта 1928 г., адресованное руководителям партийных, профсоюзных и хозяйственных организаций, работникам РКИ и ГПУ, состояло из двух частей: идеологического текста, разъяснявшего классовую подоплеку «Шахтинского дела», и информационно-описательной части, составленной на основе обзора Ростовского ПП ОГПУ [Ушакова, 2010. С. 48–49]. Полная версия письма имела гриф «Строго секретно» и предназначалась исключительно для адресной рассылки, тогда как в газете «Правда» 10 марта 1928 г. в виде передовицы была опубликована лишь его идеологическая преамбула 3.
Первоначальный рукописный проект предназначенной для последующего опубликования в газете «Правда» идеологической преамбулы официального письма ЦК ВКП(б) был подготовлен Н. И. Бухариным 4. В нем сообщались краткие сведения о фигурантах «преступной организации», а также о направлениях их «вредительской» деятельности и «уроках», которые следовало извлечь из этой «истории». Данный текст подвергся скрупулезной редакционной правке И. В. Сталина [Шахтинский процесс…, 2010. Кн. 1. С. 166–177]. Исходный вариант, видимо, показался И. В. Сталину «слабым» с точки зрения реализации целей и задач начинавшейся пропагандистской кампании.
Текстологическое сравнение рукописного проекта Н. И. Бухарина и окончательного варианта, прошедшего правку И. В. Сталина, позволяет выявить принципиальные расхождения в подходах к определению идейно-политического значения раскрытого «дела». Во-первых, внося правку в бухаринский черновик, И. В. Сталин предельно четко обозначил в тексте принадлежность «вредителей» к социальной прослойке «буржуазной» интеллигенции. И. В. Сталин намеренно вводил термин «буржуазные специалисты», являвшийся своего рода маркером, обозначавшим классовую враждебность большей части интеллигенции. К примеру, в той части текста, где Н. И. Бухарин писал, что профсоюзные работники «допустили прямое издевательство над рабочими» 5, И. В. Сталин сделал дополнение, что издевательство исходило именно «со стороны буржуазных спецов» [Там же. С. 171].
Во вторых, И. В. Сталин особо подчеркнул приоритетное значение для хозяйственников и рабочих таких качеств, как «революционное чутье» и «коммунистическая бдительность». Классовый, «революционный» подход к определению ответственности за те или иные производственные ошибки или аварии неизбежно должен был ударить по «буржуазным» специалистам, чуждым пролетарскому государству.
В-третьих, И. В. Сталиным был введен в текст мотив дифференциации специалистов на тех, кто предан «делу социалистического строительства», и тех, кого следует считать не вполне надежными. Между тем в проекте Н. И. Бухарина осуждались любые формы интеллигентофобии: «ЦК считает необходимой борьбу с могущим возникнуть спеце-едством, притом в особо ожесточенной форме этого последнего» 6.
В противовес этому И. В. Сталин подчеркивал, что нет оправдания «спецеедст-ву», «которое не различает между честными работниками специалистами и саботажниками социалистического строительства» [Шахтинский процесс…, 2010. Кн. 1. С. 170]. Уточнение И. В. Сталина симптоматично, поскольку на практике «товарищеская» «пролетарская критика» по форме мало отличалась от обычного «спецеедства».
В-четвертых, И. В. Сталин намеренно ввел в редактируемый им текст предостережение о существовании подобных «шахтинским» явлений в других отраслях промышленности. Таким образом, феномен «экономической контрреволюции» приобретал свойство закономерного, детерминированного теорией классовой борьбы явления в калейдоскопе советской действительности, становясь ее «характерной чертой».
Первоначальный проект идеологической преамбулы письма ЦК ВКП(б), подготовленный Н. И. Бухариным, был куда в меньшей степени пропитан конфронтационным пафосом в сравнении с итоговым вариантом, прошедшим редакционную правку И. В. Сталина. Если Н. И. Бухарин был склонен искать причины «сбоев» в промышленности в несовершенстве ее управленческого механизма, то И. В. Сталин делал акцент на конфронтационном потенциале Шахтинского дела в целях реализации собственной стратегии развития страны.
При наличии определенных разногласий в руководстве ВКП(б) И. В. Сталин нуждался в подтверждении правильности выбранной им стратегии. Для зондирования обстановки в Донбассе решением Политбюро 13 марта 1928 г. туда были командированы специальные уполномоченные ЦК ВКП(б) М. П. Томский, В. М. Молотов и Е. М. Ярославский [Там же. С. 650–651]. Официальная цель их поездки заключалась в сборе материалов для обсуждения «Шахтинского дела» на предстоящем пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1928 г.
Фактические задачи «эмиссаров» определялись следующим образом: во-первых, их обязанностью было на месте ознакомиться с ходом следствия, что для И. В. Сталина должно было сигнализировать о степени убедительности доказательной базы предстоящего процесса; во-вторых, в перечень их задач входил мониторинг ответной реакции представителей различных социальных и профессиональных групп на посланные из центра пропагандистские сигналы; в-третьих, немаловажной задачей являлась «встряска» местного аппарата управления в соответствии с проводимой в прессе критикой их работы. Каждый из членов командированной группы в течение десяти дней, переезжая с места на место, посещал шахты и промышленные предприятия Шахтинского, Луганского, Сталинского и Артемовского округов, встречаясь с рабочими, руководителями предприятий и работниками ОГПУ.
И. В. Сталин поступил предусмотрительно, отправив в Донбасс не только своего явного сторонника В. М. Молотова, но и представителя «правого» крыла партии М. П. Томского. При этом названный деятель, занимая пост председателя ВЦСПС, оказывался в неустойчивом положении в связи с зазвучавшей особенно остро после раскрытия «Шахтинского дела» критикой работы профсоюзных организаций. Ведомственный статус М. П. Томского, необходимость считаться с критикой работы профсоюзов сковывали его работу в качестве уполномоченного ЦК. Во время поездки внимание профсоюзного лидера сосредоточено исключительно на выяснении степени виновности в «недосмотре» «вредительства» организаций «треугольника» (партийные, профсоюзные, хозяйственные структуры) на местах.
Кроме того, Томский, единственный из группы уполномоченных ЦК, имел возможность встретиться с местными работниками ОГПУ для ознакомления с материалами предварительного следствия. Ростовским чекистам удалось полностью убедить Томского (либо он дал себя в этом убедить, пораженный картиной злоупотреблений на местах) в действительном существовании крупной контрреволюционной организации среди специалистов Донугля. Его убежденность в наличии «контрреволюционной организации» среди высшего технического персонала Донугля послужила для колеб- лющейся части членов Политбюро, в частности К. Е. Ворошилова, свидетельством надежности обвинительного материала для предстоящего процесса.
Докладные записки М. П. Томского и Е. М. Ярославского по итогам поездки (В. М. Молотов не успел до начала апрельского пленума ЦК и ЦКК формализовать в текстовом виде собранные им данные) предоставили богатый материал для обсуждения этого «дела» на пленуме. Результаты командировки, по всей видимости, укрепили И. В. Сталина в решимости максимально акцентировать конфронтационный потенциал «Шахтинского дела». Так, в своей докладной записке от 1 апреля 1928 г. Е. М. Ярославский приходит к благоприятному для И. В. Сталина выводу: «Общая картина того, что дает хотя бы беглое обследование шахт, рудников и других предприятий Артемовского округа, целиком оправдывает первые данные следствия ОГПУ» [Шахтинский процесс…2010. Т. 1. С. 702].
В повестке дня объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1928 г. значились два наиболее актуальных вопроса экономической и общественно-политической жизни страны: кризис хлебозаготовок и «уроки» «Шахтинского дела». Обсуждение второго вопроса происходило во второй половине отведенного для работы пленума срока, т. е. 9–10 апреля 1928 г. Основным докладчиком, представлявшим комиссию Политбюро, выступил А. И. Рыков. Он, видимо, рассчитывал на развертывание широкой дискуссии по вопросу об отношении партии к «старым» специалистам. Эта проблема волновала его в связи с неверным, по его мнению, направлением, которое приобрела к тому времени шедшая уже месяц агитационно-пропагандистская кампания. А. И. Рыков подверг критике поставленную в передовице «Известий» от 30 марта 1928 г. перед специалистами задачу «безоговорочно формулировать свое принципиальное отношение к социалистическому строительству в нашей стране» 7. Он объяснял неправильность выдвинутого требования тем, что инженерство тем самым провоцируют на обман, лицемерную демонстрацию приверженности социалистическому строю. Оспаривая это требование, А. И. Рыков выступал и против упрощенного деления «спецов» на тех, кто «за», и тех, кто воздержался (а значит, следуя логике советской пропаганды, был «против»). Такая политика, по его мнению, фактически означала конец сотрудничества с «буржуазной» интеллигенцией [Как ломали НЭП, 2000. Т. 1. С. 165].
Однако вопрос об отношении партии к «старым» специалистам, приобретший принципиальный характер в процессе формирования сталинской стратегии, на апрельском пленуме остался по большей части на периферии обсуждений. Большинство выступавших обращались в своих речах преимущественно к проблемам функционирования местных «треугольников», реорганизации треста «Донуголь», подготовки новых кадров для советской промышленности, взаимодействия специалистов и хозяйственников и т. д. Таким образом, апрельский пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) показал, что большинство его делегатов не занимали никакой принципиальной позиции по проблеме отношения к «буржуазным» специалистам, оставив прерогативу трактовать политико-идеологическую составляющую «Шахтинского дела» за И. В. Сталиным.
Такой ход обсуждений на пленуме фактически означал победу И. В. Сталина над его политическими конкурентами. Апрельский пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) продемонстрировал неспособность собравшейся партийно-государственной элиты к обсуждению принципиальных вопросов, определяющих перспективу идеологического и политического курсов большевистской партии. Характерно, что в упоминавшемся докладе на собрании актива московской парторганизации по итогам апрельского пленума генсек с удовлетворением отмечал отсутствие на пленуме «фракционных выходок и фракционной демагогии» 8.
Возможно, именно неспособность последовательно отстаивать свою точку зрения в принципиальных вопросах обусловила поражение идеологов «правого уклона» осенью 1928 г. Так, А. И. Рыков вскоре после своего доклада на апрельском пленуме отказался защищать высказанные в нем критические замечания по поводу практики дифференциации инженерства. В частности, в речи, произнесенной на сессии ЦИК СССР 16 апреля, А. И. Рыков заявил в противоположность своим прежним словам, что пар- тия не использует в достаточной мере наметившегося процесса расслоения среди самих специалистов: «Один из выводов шахтинского дела, мне кажется, заключается в том, что нужно сделать еще один шаг вперед в сторону большего сближения советской власти и наших массовых организаций с той частью специалистов, которая искренно и добросовестно работает с советской властью над развитием производительных сил в стране. Сблизившись с этой группой, мы можем легче контролировать и учитывать всю работу по реконструкции хозяйства и проверять тех специалистов, которые не совсем надежны. Во всяком случае, тогда легче будет отличать врага от друга, чем это было до настоящего времени» 9.
«Правые» оппоненты И. В. Сталина в дальнейшем против своей воли вынуждены были участвовать в разыгрываемом спектакле «Шахтинского дела». При этом И. В. Сталин «обхитрил» своих противников, выбив из их рук козырь союзничества с «буржуазной» интеллигенцией. Так, в известной беседе с Л. Б. Каменевым, состоявшейся в начале июля 1928 г., Н. И. Бухарин обвинял И. В. Сталина в политической беспринципности, в том, что тот, прикинувшись «правым», дискредитировал своих подлинных оппонентов. Н. И. Бухарин приводил пример обсуждения на закрытом заседании Политбюро вопроса о формуле приговора по Шахтинскому процессу, когда «правые» голосовали за вынесение смертных приговоров, а Сталин вдруг проголосовал против [Фельштинский, 1993 С. 30–38].
Причинами сохранения видимого единства в руководстве ВКП(б) могли быть как нежелание вступать со Сталиным в открытую конфронтацию, так и осознание опасности углубления кризиса в связи с нарастающим протестным движением в городе и трудностями хлебозаготовок в деревне. В условиях угрозы политической стабильности, большевистская элита ради сохранения власти пожертвовала интересами своих союзников – крестьянства и интеллигенции.
SHAKHTY TRIAL 1928 AS INDICATOR OF INNER-PARTY RELATIONS
Список литературы "Шахтинское дело" 1928 года как индикатор внутрипартийных взаимоотношений
- Есиневич А. А. Театр абсурда, или Судебный процесс по Шахтинскому делу. СПб., 2004.
- Как ломали НЭП: Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928-1929 гг.: М., 2000. Т. 1: Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 6-11 апреля 1928 г.
- Кислицын С. А. Шахтинское дело: Начало сталинских репрессий против научно-технической интеллигенции в СССР. Ростов н/Д, 1993.
- Ушакова С. Н. Идеолого-пропагандистская составляющая Шахтинского процесса // Судебные политические процессы в СССР и коммунистических странах Европы: сравнительный анализ механизмов и практик проведения. Новосибирск. 2010. С. 45-50.
- Фельштинский Ю. Г. Разговоры с Бухариным. М., 1993. Шахтинский процесс 1928 г.: Подготовка, проведение, итоги: В 2 кн. М., 2010- 2011.