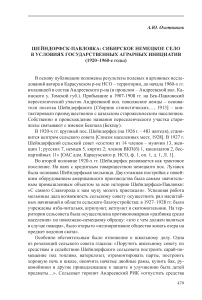Шейндорфск-Павловка: сибирское немецкое село в условиях государственных аграрных инициатив (1920-1960-е годы)
Автор: Охотников А.Ю.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XV, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521578
IDR: 14521578
Текст статьи Шейндорфск-Павловка: сибирское немецкое село в условиях государственных аграрных инициатив (1920-1960-е годы)
В основу публикации положены результаты полевых и архивных исследований автора в Карасукском р-не НСО – территории, до начала 1960-х гг. входившей в состав Андреевского р-на (в прошлом – Андреевской вол. Каинского у. Томской губ.). Прибывшие в 1907-1908 гг. на Бек-Павловский переселенческий участок Андреевской вол. поволжские немцы – основатели поселка Шейндорфского [Сборник статистических…, 1913] – контактировали преимущественно с казахским старожильческим населением. Собственно и происхождение названия переселенческого участка старожилы связывают с именем Бекпала (Бекпау).
В 1920-х гг. крупный пос. Шейндорфск (на 1926 г. – 483 жителя), становится центром сельского совета [Список населенных мест, 1928]. В 1927 г. Шейндорфский сельский совет «состоял из 14 членов – мужчин 13, женщин 1; русских 7, немцев 5, киргиз 2; членов ВКП(б) 1, кандидатов 2, беспартийных 11» [ОАС адм. Карасукского р. НСО, ф. 1, оп. 1, д. 1, Л. 1].
Во второй половине 1920-х гг. Шейндорфск развивается как трактовое поселение. На паях с кредитным товариществом немецкого пос. Луганск была основана Шейндорфская мельница. Двухэтажная постройка с новейшим оборудованием американского производства была самым значительным промышленным объектом за всю историю Шейндорфска-Павловки: «С самого Славгорода к нам муку молоть приезжали». Успешная работа мельницы дала возможность сельскому совету осуществить ряд масштабных начинаний в области сельского благоустройства: в 1927–1928 гг. были учреждены изба-читальня, агропункт, ветпункт и скотомогильник. На территории сельсовета была осуществлена противопожарная «разбивка среди населения» по поволжско-немецкому образцу: «кто с чем должен являться в случае пожара», было открыто «мелиоративное общество копать озера на предмет водопоя скота».
Особенно обстоятельным было отношение к школьному делу. Одна из резолюций сельского совета гласила: «Поручить школьному совету по средствам и содействию Шейндорфского сельсовета построить сарай-помещение под топливо, ватерклозет, отремонтировать парты, построить хорошую печь в школе, окончить начатые двойные рамы, купить бак, рукомойники и другие принадлежащие к защите и улучшению быта детей предметы…». Сельсовет торопит Андреевский РИК «отпустить средства на покупку топлива – кизяку, пеньков, корней и кураю, потому что сейчас можно купить дешевле» [там же, Л. 34-39].
В первой половине 1930-х гг. пос. Шейндорфск остается лидером по уровню развития производства и инфраструктуры в Андреевском р-не Славгородского окр. Здесь был основан первый успешный колхоз (артель «Слава»); в мае 1930 г. правление командирует трех колхозников для получения второго трактора [ГАНО, П-28, оп. 1, д. 39, Л. 45]. Впоследствии в поселке была создана одна из четырех районных МТС; была открыта больница.
Лидеры, пользующиеся доверием сельской общины, либо не принимались районной властью (как бывший председатель сельсовета «кулак» Бехтольд), либо сами подавали в отставку «по несогласию» с методами колхозного строительства (как первый председатель артели «Слава» Вернер). С рекрутированием новых представителей местной власти из числа бывших батраков возникли проблемы. Так, в декабре 1929 г. закрытое собрание Шейндорфской партийной группы поставило вопрос об исключении двух кандидатов – немцев-бедняков, которые «ведут связь с кулацким элементом и систематически пьянствуют, не посещают партсобрания… дискредитируют партию» [там же, Л. 51].
Руководство немецких колхозов районная пресса нередко критиковала за «разделение» хозяйственных и политических задач: «Правление колхоза им. Тельмана Шейндорфского сельсовета недооценивает роль красного уголка. В колхозе имеется клуб, красный уголок, но благодаря оппортунистическим взглядам на вещи правления и председателя колхоза Шнайдер, красноуголец не выделен. Председатель колхоза заявляет: на красноуголь-ца трудодней нет, мы и без него справляемся с заданиями» [«Сталинский путь» от 17.03.1935].
В то же время внимательное рассмотрение интеграции сибирских немцев в колхозное крестьянство указывает на относительную лояльность немецких сельских обществ, наличие примет советизации, принятие и даже ревностное исполнение решений местной власти. Так, большие усилия по интеграции немцев в «новую жизнь» прилагались советской школой: «Ученики Шейндорфской школы под руководством учителя Мауль проработали письмо КрайОНО о выписке детских газет и одобрили его» [«Сталинский путь» от 17.03.1935]. В условиях пресечения деятельности конфессиональных институтов идеологическое воздействие и практики советского воспитания были весьма эффективными.
Сведения, имеющиеся о немецком населении в Андреевском РК ВКП(б) на 1937 г., никак не подтверждали сталинский тезис о «нарастании классовой борьбы». Районному отделу НКВД в 1936 г. досаждали четыре немца из четырех десятков местного «контрреволюционного кулацкого и уголовного элемента»: два «уголовника», один «сектант» и один «кулак» [ГАНО, П-28, оп. 1, д. 150, Л. 2-4]. В 1937 г. два андреевских немца были «выдвинуты» в состав местной партийной номенклатуры – Карл Герман стал 480
парторгом в Шейндорфске, Андрей Зейбель – инструктором РК ВКП(б) [ГАНО, П-28, оп. 1, д. 188, Л. 153].
Годы «большого террора» имели катастрофические последствия для сибирских немцев. На начало 1941 г. из 134 немецких хозяйств в Шейн-дорфске 42 были вдовьими. Помимо потерь от репрессий, немецкие села знали и миграционные потери. Так, из 164 хозяйств шейндорфских немцев в течение 1940 г. выехали 30 (из них 15 – старожильческие) [ОАС адм. Ка-расукского р. НСО, ф. 8, оп. 3, дд. 19, 22; ф. 9, оп. 3, д. 3, 31].
Тяготы военного времени (изъятие трудоспособного населения, военные фискальные обязательства, размещение перемещенных лиц) в сибирско-немецких деревнях приходились на ослабленную «большим террором» демографическую структуру. По данным Л.П. Белковец, «после отправки немцев в рабочие колонны в октябре 1942 г. в ряде районов осталась половина трудоспособного населения. Так…в 13 немецких колхозах Андреевского района из 1187 чел. осталось 465» [Белковец Л.П., 2003].
«В апреле месяце [ 1945 г. Андреевский – авт .] РК ВКП(б), Райисполком и РайЗО предложили колхозникам из бывших немецких колхозов выехать в русские колхозы, а кто не желает – устраиваться там, где они сочтут нужным» [ГАНО, ф. П-4, оп. 34, д. 233, Л. 162.]. Шейндорфские немцы были принуждены к переезду в окрестные деревни и аулы, в свою очередь, казахское население – к перемещению в оставленные немцами дома. Вероятно, «микширование» населения национальных поселков преследовало и фискальные цели: размещение казахов по немецким «линиям» упрощало учет и контроль личного имущества, распределение немцев по украинским деревням и казахским аулам первое время лишало их поддержки сельских обществ.
Ликвидация немецких колхозов сопровождалась актами мародерства и конфискациями: «После того, как немецким колхозам весной 1945 года посевного задания дано не было, их имущество начало растаскиваться и разбазариваться… Из бывшего колхоза «Шейндорф» была взята мельница с двигателем и оборудованием и передана Райпищепрому на слом» [Там же, Л. 163].
В 1948 г. пос. Шейндорф «в соответствии с пожеланиями трудящихся» был переименован в Павловку [ОАС адм. Карасукского р. НСО, ф. 1, оп. 1., д. 248, Л. 61.]. Данью реальному положению дел и изменившейся национальной структуре была смена статуса поселения – в 1957 г. Павловка еще именовалась аулом [ОАС адм. Карасукского р. НСО, ф. 1, оп. 1., д. 74, Л. 219.]. В 1949 г., с момента возвращения взрослых мужчин из трудармии, начался процесс стихийного переселения семей андреевских немцев в родные поселки.
Восстановление к началу 1960-х гг. «исходных» этнических параметров немецких населенных пунктов Андреевского р-на было относительным как по доле коренных жителей, так и в смысле их культурной гетерогенности, приобретенной за время проживания в иноэтничном окружении, усиленной совместным участием в модернизированном общественном производстве и обращением к единым образовательным институциям.
Целинная застройка Павловки может служить примером влияния совхозных практик на традиционную материальную культуру. Поселение (к началу 1960-х гг. – отделение совхоза им. Дзержинского) было перемещено относительно своей «исторической территории», основу жилищного фонда составляли типовые кирпичные одноэтажные дома на двух хозяев. Немецкие черты застройки проявлялись лишь в цветовом решении (в окраске наружных деревянных деталей преобладает синий цвет) и аккуратном уходе за строениями.
Традиционно ориентированные на производство зерновых, павловские немцы работали в животноводческом совхозе: «вечный скотник», «пожизненная доярка» - так пожилые информанты обозначают собственную трудовую биографию.
Занятость в совхозе и школьное обучение способствовали распространению русского языка, прежде всего в служебной иерархии, в то время как бытовая сфера в моноэтничных семьях павловских старожилов вплоть до настоящего момента обслуживается языком и культурой предков, со значительным массивом лингвистических и бытовых казахских, русских, украинских заимствований.
Автор выражает признательность работникам отдела архивной службы администрации Карасукского района Новосибирской области, сотрудникам Карасук-ского филиала Новосибирского областного Российско-немецкого дома, жителям с. Павловка за помощь в подготовке публикации.