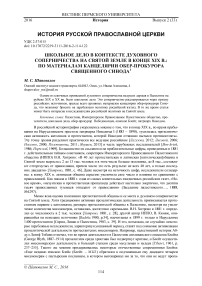Школьное дело в контексте духовного соперничества на Святой земле в конце XIX в.: по материалам канцелярии обер-прокурора священного Синода
Автор: Шаповалов М.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История Русской православной Церкви
Статья в выпуске: 2 (33), 2016 года.
Бесплатный доступ
Одним из ключевых проявлений духовного соперничества ведущих держав в Палестине на рубеже XIX и XX вв. было школьное дело. Это соперничество рассматривается через призму российских источников, прежде всего архивных материалов канцелярии обер-прокурора Синода, что позволяет бросить на зарубежную политику российский взгляд. В то же время статья может быть интересна и исследователям российской политики на Святой земле.
Палестина, императорское православное палестинское общество, прозелитизм, школьное дело, обер-прокурор победоносцев, епископ блейт, патриарх никодим
Короткий адрес: https://sciup.org/147203720
IDR: 147203720 | УДК: 2:37:015 | DOI: 10.17072/2219-3111-2016-2-114-122
Текст научной статьи Школьное дело в контексте духовного соперничества на Святой земле в конце XIX в.: по материалам канцелярии обер-прокурора священного Синода
В российской историографии укоренилось мнение о том, что в конце XIX в., во время пребывания на Иерусалимском престоле патриарха Никодима I (1883 – 1890), «усилилась прозелитиче-ская активность католиков и протестантов, которой Никодим отчаянно пытался противостоять». Эту точку зрения разделяют практически все ведущие российские [ Лагузова, 2012; Лисовой, 2006; Носенко , 2000; Половникова , 2011; Якушев , 2013] и часть зарубежных исследователей [ Ben-Arieh , 1986; Hopwood , 1969]. Большинство их ссылаются на приблизительные цифры, приведенные в 1881 г. действительным тайным советником, секретарем Императорского Православного Палестинского общества (ИППО) В.Н. Хитрово: «В 40 лет протестантская и латинская [католическая]община в Святой земле выросла с 2 до 13 тыс. человек и в этом числе больше половины, до 8 тыс., составляют отторгнутых от православия, причем число это есть результат не всех 40 лет, а только последних двадцати» [ Хитрово , 1881, с. 46]. Даже несмотря на неточность цифр, исследователи солидарны: к концу XIX в. латинская община серьезно увеличила свое число и влияние по сравнению с православной. Как писала в 1888 г. одна из самых влиятельных ежедневных российских газет, «Новое время», «иезуитская и протестантская пропаганда действует настолько энергично, что десятки тысяч православных туземцев отпадают от православия» (Заседание палестинского…, 1888, №4297).
Менее ясна оценка положения протестантской общины и ее места в духовном соперничестве на Святой земле. Хотя традиционно активная прозелитическая деятельность приписывается протестантам наравне с католиками, размеры протестантской общины в Палестине, несмотря на увеличение количества миссионеров, оставались достаточно скромными. В.Н. Хитрово в 1881 г. определял ее численность в 2 тыс. человек [ Хитрово, 1881, с. 28], другой автор ИППО, В. Кюине, опиравшийся на немецкие источники [ Badeke, 1900, p.34], насчитывал в 1899 г. только в Иерусалиме 1400 протестантов [Сирия, Ливан и Палестина, 1903, c. 39]. И это, возможно, не случайно: некоторые зарубежные исследователи, характеризуя указанный период, ставят под сомнение активизацию прозелитической деятельности протестантских миссионеров. Например, палестинский историк Абдул Латиф Тибави отмечал, что во время деятельности в Палестине англиканского епископа Блейта (George Blyth, 1887–1914) прозелитизм среди христиан был подвергнут критике, и Блейт осуществлял миссионерскую деятельность в большей степени среди мусульман и иудеев [ Tibawi , 1961, р. 237–255]. Такого же мнения придерживались некоторые отечественные современники Блейта: «Еще недавно епископ Блейс (Блейт. – М.Ш. ) обратился к подчиненным ему двадцати четырем миссионерам с пастырским посланием, в котором выговаривал им за то, что они не ведут пропа-
ганды среди магометан, а действуют против православия, что решительно не одобряется епископом» [ Суворин, 1898, с. 116].
В этой связи возникает вопрос об оценке российскими дипломатами и чиновниками британской духовной политики в Палестине: фиксировали ли они факты ее активизации наравне с французской, насколько общее противостояние с Англией влияло на соперничество в Палестине или, напротив, Святая земля стала неким исключением в этом отношении?
Ответы на эти вопросы можно получить, проанализировав соперничество христианских держав в школьном вопросе. Как справедливо отмечал Н.Н. Лисовой, «школы рассматривались руководством Общества (ИППО. – М.Ш. ) как единственный реальный инструмент конкуренции православной России на Востоке с католическими и протестантскими державами Запада» [ Лисовой , 2006, с. 194]. Поэтому анализу европейского школьного строительства в Палестине уделялось особое место в российских дипломатических и духовных кругах.
18 февраля 1890 г. в Министерство иностранных дел пришло донесение российского консула в Иерусалиме статского советника С.В. Максимова (1889–1891). Тот сообщал, что, зайдя на прошлой неделе к Иерусалимскому патриарху Никодиму с визитом, он встретил у него англиканского епископа в Иерусалиме мистера Блейта «в сопровождении вновь приехавшего из Лондона священника и нескольких других лиц, приходивших к патриарху для переговоров относительно прекращения в Палестине совращения православных христиан в англиканство». Блейт уверял патриарха, что в виду «известного желания воссоединиться с православием», он отправлял жалобы в Лондон по вопросу агитации православных в англиканство. Свою деятельность в Палестине епископ «оправдывал … слабым состоянием греко-православных школ» (РГИА. Ф.797. Оп.60. Отд.II. Ст.3. Д.157. Л.5). Далее С.В. Максимов докладывал: «В течении продолжительного разговора на эту тему равно и по поводу склонения местных христиан переменять из-за личных выгод одну христианскую религию на другую, я узнал, что англиканский епископ предложил Блаженному Никодиму субсидию в пять тысяч золотых в год для улучшения православных школ в Палестине с условием признать за англиканами право на их периодическую инспекцию» (Там же).
Это предложение, как и весь разговор, вызвало у российского консула настороженность: «…Как весьма вероятно предложение это обуславливается тайным замыслом мистера Блейта сблизиться с патриархом с тем, чтобы впоследствии заменить пародическую инспекцию школ постоянным руководством над ними» (Там же. Л.6). С.В. Максимов подчеркивал, что «эта сторона английского предложения в связи с тем, что помощь предлагается иноверцем, должна заставить Блаженного Никодима серьезно призадуматься над этим вопросом, и я смею предполагать, что он решит его в отрицательном смысле» (Там же).
Несмотря на казалось бы вполне ожидаемое расположение патриарха Никодима к Петербургу, С.В. Максимов указал на уязвимые места российских позиций в Палестине: «Ввиду этого предложения нельзя не припомнить переговоры, которые вел с Патриархом Секретарь ИППО тайный советник Хитрово (В.Н. Хитрово. – М.Ш. ) во время последнего посещения им Иерусалима осенью прошлого года. Высказывая готовность открывать в Палестине школы, г. Хитрово поставил условие, чтобы Патриарх не вмешивался ни в выбор наставников, ни в систему преподавания, словом, не домогался, чтобы школы предоставлены были в исключительное ведение Общества. Усмотрев в этих условиях доказательство недоверия к себе, Патриарх нашел нужным отклонить означенные предложения» (Там же).
В этой связи С.В. Максимов советовал: «Все же я считаю своим долгом довести о вышеупомянутом до сведения Вашего в предложении, что быть может Вам будет благоугодно поставить о нем в известность ИППО, которое не может не остановить полного внимания на английском предложении и быть может поторопиться прийти в школьном деле на помощь Патриархии. Желанный контроль в выборе учителей, способов преподавания и употребления сумм легко иметь, если ИП-ПО согласиться предоставить его Консульству, которое пользуется симпатией Патриарха и может иметь ввиду инструкций общества. Если они не будут в противоречии с добрыми отношениями к местному духовенству и нашими трактатами с Турцией» (Там же. Л. 7).
В заключении консул, возвращаясь к разговору патриарха с епископом, отмечал: «…Считаю своей обязанностью сказать, что заявление Блаженному Никодиму Епископа Блейта о состоянии англиканской пропаганды в Назарете приносит честь школьному делу ИППО в этом городе. Англиканская пропаганда не делает никаких успехов в Назарете, это обстоятельство англиканский епископ приписывает "серьезности русской школы" содержимой на средства ИППО» (Там же. Л.8).
Через семь дней после первого донесения, 25 февраля 1890 г., российский консул отправил в МИД второе, в котором дал политическую оценку визита англиканского епископа. В частности, С.В. Максимов писал: «Зайдя к Блаженству 24 февраля, я возобновил с ним разговор по поводу визита Мистера Блейта. Патриарх заверил меня, что "он не примет от англичан пособий на школьные дела", о чем уже позволил себе заявить в донесении № 132, выразил мне предположение что "предложение англиканского епископа имеет для России политическое значение", показывает, что англичане озабочены русской деятельностью в Палестине и начали изыскивать средства ее парализовать. Может статься, что делая своё предложение, Мистер Блейт предварительно заручился согласием английского правительства». Далее он сообщил второй интересный факт: «Сопоставляя этот взгляд со слухом, который два года перед сим, распространился в Иерусалиме о возможности в Англии займа для уплаты долгов Патриарха, нельзя не видеть в нынешнем предложении повторения попытки как мне кажется ввести Блаженного Никодима в денежное обязательство в Англии, чем конечно был бы нанесен сильный удар нашему престижу в Палестине» (Там же. Л.9).
Наконец, чиновник делал вывод: «Предложение Мистера Блейта приобретает для нашей деятельности в Святой земле слишком важное значение, готовящееся отклонение его Патриархом представляется мне услугой русскому делу в Палестине. В месте с сим принимаю смелость предполагать, что оно нравственно обязывает нас принять решение в вопросе о средствах улучшить нынешнее стесненное денежное положение Патриархии, которое вызывается постоянными жалобами со стороны Его Блаженства на свое затруднительное экономическое положение, делающееся в каждым последующем более и более безысходным» (Там же).
Донесения С.В. Максимова министр иностранных дел России Н.К. Гирс сопроводил своими комментариями и отправил 12 апреля 1890 г. под грифом секретно К.П. Победоносцеву. В тексте, кратко пересказывая суть инцидента с Блейтом, Гирс называл предложение англичанина «в высшей степени знаменательным явлением», которое обязывало МИД и Синод «обратить внимание на положение православных школ в Палестине». Министр иностранных дел связывал приход англиканского епископа к Никодиму с оглаской среди конкурирующих Церквей натянутых отношений между Иерархатом Иерусалимской церкви и уполномоченными ИППО. Гирс прямо указал на суть проблемы: «Хотя ИППО и готово широко пожертвовать поступающими в распоряжение его средствами на просвещение православного населения Палестины, но успехам его деятельности вредят разногласия, возникающие между местными представителями Общества и Патриархии» (Там же. Л.1).
В этом конфликте, судя по тону письма, Гирс был на стороне патриарха, его беспокоило, что «уполномоченные общества систематически отстраняют всякий контроль Патриархии над учрежденными Обществом школами, и что обстоятельство это навлекает на него Патриарха, негодования турецкого правительства» (Там же. Л.2). Министр называл урегулирование конфликта «неотложной необходимостью» и призывал оказать патриарху Никодиму материальное содействие «в деле поддержания православных школ в Святой земле». По его мнению, «только при этих условиях деятельность Палестинского общества на пользу православного населения приобретет прочную основу» (Там же. Л.3). Наконец, осознавая внутриполитическую особенность школьного вопроса (председателем ИППО с 1888 по 1905 г. являлся великий князь Сергей Александрович Романов), Гирс просил донести его доводы и мнение лично до «Августейшего председателя ИППО» (Там же. Л.3).
Ответ К.П. Победоносцева Гирсу пришел сравнительно быстро, и уже с первого предложения были понятны общий тон письма и отношение обер-прокурора к проблеме: «Сведенья и соображения, содержащиеся в сообщениях мне при письме Вашего Превосходительства от 12 апреля сего года за № 88 донесениях Консула Максимова представляются мне несколько странными и не совсем понятными». Непонимание и даже негодование у К.П. Победоносцева вызывали как само предложение Блейта, так и его оценка представителями МИДа: «Трудно себе представить, чтобы английский епископ по собственному побуждению решился обратиться к патриарху с подобным предложением, купить себе за деньги право ревизировать православные школы. Непонятно и то, как возможно было на сем предложении остановиться и выводить из него заключения, клонящиеся к предосуждению Палестинского общества в намерениях стеснить или умалить власть патриарха. Еще прибавлю, что мне весьма странно кажется выраженная консулом мысль будто отклонение православным патриархом иноверческого вмешательства в дела православного церковного ведомства представляются "услугой патриарха русскому делу в Палестине". Казалось бы что русское дело в Палестине есть в тоже время и дело Православной патриархии» (Там же. Л.18).
К.П. Победоносцев старался уменьшить ажиотаж вокруг предложения Блейта, не ставя при этом под сомнение само предложение как таковое. В основу своих рассуждений он положил тезис о желании Никодима выпросить, используя нагнетание атмосферы вокруг угрозы российским интересам в Палестине, дополнительное финансирование. Обер-прокурор упомянул, что «Блаженный патриарх Никодим обращался в прошлом году за денежной помощью в Англию, и могло случиться, что предложения англиканского епископа имеют некоторую связь с этим обращением» (Там же. Л.19).
Особой критике К.П. Победоносцев подверг суждение С.В. Максимова, а затем и Гирса, о конфликте между Иерусалимской патриархией и ИППО: «Г. Консул упоминает в своем донесении о натянутых отношениях между Иерархией иерусалимской церкви и уполномоченных Палестинским обществом по поводу сих школ, но не приводит ни одного факта в объяснение или в подтверждении своих суждений, тогда как указание на факты в настоящем случае имело бы существенное значение и без этого указания. Суждения консула являются голословными» (Там же. Л.19). Стараясь доказать свою правоту и поставить точку в споре об этом вопросе, обер-прокурор использовал в письме имя «Августейшего председателя ИППО», к которому как раз и апеллировал глава МИДа: «Между тем по имеющимся у меня сведениям не только нет в виду ни одного подобного факта, но напротив того есть факты прямо противоположные. Блаженный Никодим, имея со мной некоторую корреспонденцию, не только не заявлял каких-либо претензий к Палестинскому обществу, но и отзывался о нем с одобрением и благословением. Сколько мне известно таковые-же были отзывы в его корреспонденциях с Его Высочеством Великим Князем Сергеем Александровичем и высшими представителями Палестинского общества» (Там же. Л.20).
К.П. Победоносцев действительно мог быть раздражен попытками Никодима снова использовать проблему православных школ в качестве инструмента выкачивания денег из Петербурга. Очевидно, что данный вопрос для обер-прокурора был закрыт: по информации из отчета председателя Отделения поддержания православия в Святой земле ИППО П.А. Васильчикова школьный вопрос был урегулирован с патриархом еще в ходе миссии В.Н. Хитрово в Иерусалим в 1884 г, когда были достигнуты договоренности с Никодимом о разграничении сфер ответственности в надзоре и контроле над православными школами ( Васильчиков , 1886, с. 140–142). Однако П.А. Васильчиков поторопился с окончательными выводами, для Никодима как школьный вопрос, так и вопрос его финансирования остался нерешенным, о чем и сообщал С.В. Максимов.
Интересно также, что разговор между Никодимом и Блейтом, который проходил по документам МИДа и Синода секретно, впоследствии стал достоянием широкой общественности. А.А. Суворин, встречавшийся с Никодимом в ходе своих странствий по Палестине, не просто упомянул в записках о разговоре патриарха с Блейтом, а практически процитировал слова Блейта об английской пропаганде в Назарете: «Все это прекрасно сознается протестантами со стороны англиканского епископа в Иерусалиме Блейса (Блейта. – М.Ш. ), вовсе не одной пустой и чрезмерной любезностью были слова, сказанные им патриарху Иерусалимскому Никодиму: "С тех пор как в Назарете появились русские со своими школами, мы там ничего не можем сделать"» ( Суворин, 1898, с. 116). И это было неудивительно, статский советник С.В. Максимов был одним из многих [ Марков, 1891, с.31-32], кому патриарх Никодим жаловался на активное распространение католичества и протестантизма в Палестине, на недостаточность финансовых средств на борьбу с ними.
Донесение о предложении Блейта направлять ежегодно в распоряжение патриархии по 5 тыс. золотых на улучшение православных школ в Палестине является очень любопытным документом. Трудно говорить о серьёзности данного предложения. Сумма в 5 тыс. золотых (примерно 65 тыс. рублей) была явно недостаточной для покрытия расходов православных учреждений на школьное дело и вряд ли спасла бы Иерусалимского патриарха от долгов. К примеру, средства ИППО, направляемые на содержание школ в Палестине, по подсчетам Н.Н. Лисового составляли около 240 тыс.рублей [ Лисовой , 2006, с. 201].
Однако сам факт предложения отражал разность видения ситуации, связанной с духовным соперничеством в Палестине. Сотрудники МИДа явно выступали на стороне патриарха Никодима и способствовали активизации российских усилий в духовном, а для них и в политическом, проти- востоянии с Англией (и со всем неправославным миром). Визит Блейта был расценен и преподнесён сотрудниками МИДа как прямая попытка Англии вмешаться в российские дела. В самом начале донесения С.В. Максимов отметил, что предложение о субсидии является частью «общеизвестного противодействия англичанами нашим предприятиям всюду, особенно в Турции» (РГИА. Ф. 797. Оп. 60. Отд. II. Ст.3. Д.157. Л.9).
Высшее руководство Священного синода, напротив, старалось не замечать этого соперничества, сводя палестинский вопрос скорее к вопросу иерархии в православной церкви или, принимая во внимание то, что Никодим считался ставленником Петербурга, даже к вопросу внутрироссий-скому. Контакты патриарха с англиканским епископом представлялись не более чем игра вокруг финансирования русских проектов на Святой земле, причем игра не обязательно Никодима, а возможно и МИДа. Поэтому К.П. Победоносцев в своём ответе на письмо Гирса подчеркнул странность того, «что консул Максимов придает этому обязательству серьёзное значение в вышеуказанном смысле» (Там же).
Отвлекаясь от частных отношений патриарха Никодима и Петербурга, следует отметить, что обер-прокурор К.П. Победоносцев всегда ревностно оберегал казну Синода от многочисленных просьб из Иерусалима, которые поступали от всех патриархов без исключения. Его опыт подсказывал ему необходимость «искать двойное дно» даже в самых благих просьбах. Впоследствии отставка патриарха Никодима в 1890 г. и приход на патриарший престол Герасима (1891–1897), а затем Дамиана (1897–1908, 1909–1931) не решили финансового вопроса. Более того, реакция обер-прокурора на просьбы патриарха Герасима (сторонника Святогробского братства) становилась все более резкой. После очередного такого послания в 1895 г. К.П. Победоносцев докладывал императору: «Вашему Величеству известно уже содержание письма, адресованного ко мне от Иерусалимского патриарха, с приложенной к нему запиской. Невозможно оставить без ответа это – совсем необычное по тону своему писание, внушенное патриарху, конечно, алчными и злобствующими святоборцами» (РГИА. Ф.1574. Оп II. Д.243. Л.2).
Возвращаясь в 1890 г. к патриарху Никодиму и епископу Блейту, следует резюмировать, что предложение Блейта, как для сотрудников МИДа, так и для Священного синода свидетельствовало о пристальном внимании Лондона к событиям в Палестине, о желании давних соперников России упрочить свое положение на традиционном направлении российской внешней политики. Насколько им это удалось к концу последнего десятилетия XIX в., показывает анализ школьного дела в Палестине, осуществлённый товарищем министра иностранных дел России В.Н. Ламсдорфом (1897– 1900).
В письме иерусалимскому патриарху Дамиану от 16 ноября 1898 г. В.Н. Ламсдорф старался привести аргументы в пользу открытия новых православных школ ИППО в Палестине, которому противился патриарх. Одним из главных доводов товарища министра стало школьное строительство европейских держав и, как следствие, увеличение численности неправославных общин. По данным В.Н. Ламсдорфа к 1898 г. в Иерусалиме на 43 тыс. жителей приходилось 4 тыс. православных, 2 тыс. католиков и около 700 протестантов (РГИА.Ф.797. Оп 68. Отд. II. Ст.3. Д. 333. Л.8). Оценивая быстрый рост католической общины в Палестине, В.Н. Ламсдорф писал: «В 1848 году Латинским Патриархом был назначен Валерга и нашел 4400 Католиков. В 1872 г. он умер и оставил 7500 Римско-Католиков. Его преемник Бракко умер в 1889 г. и оставил 13500 Римско-Католиков. В 1897 г. в Латинском Патриархате насчитывалось уже более 14000 Римско-Католиков и около 6000 отщепенцев Православных, на половину отставших от Православия, так называемых Униатов» (Там же. Л.9). В данной статистике обращает на себя внимание значительное замедление роста католической общины в 1889–1897 гг. – на 500 человек. Но даже такие цифры, по мнению В.Н. Ламсдорфа, были неприемлемыми. Увеличение численности общины товарищ министра иностранных дел связал именно с деятельностью латинских патриархов, что с учётом адресата письма, безусловно, было неслучайным.
Успехи католических миссионеров в школьном деле к 1898 г. были не менее значительными. В Иерусалиме к этому времени насчитывалось 12 обычных католических школ и 3 специализированных заведения: Библейская школа Доминиканцев, семинария Алжирских Братьев и Францисканская семинария. По мнению В.Н. Ламсдорфа, два последних заведения были «самыми опасными для Православия» (Там же. Л.8). В 12 католических школах учились 1060 учеников, т.е. одна школа приходилась на 167 католиков, а один учащийся в школе – на двух католиков (Там же. Л.8).
Однако такие высокие показатели объяснимы и тем, что среди учащихся католических школ были не только католики. Товарищ министра отмечал: «Вашему Блаженству известно, что Мусульмане и Евреи почти не отдают своих детей в католические школы. Детей протестантов в описываемой местности – мало и протестантских школ для них существует более, чем надо. Остается одно объяснение вероятно в упомянутом числе учеников – много Православных. Так оно есть и на самом деле. Так, например, в школе сестер Св. Иосифа их 19 человек, т.е. они составляю 8% всего числа, в школах Сионских Дам их 10 человек или 12%, а у Братьев Христианских Школ их 34% (80 Православных и 153 остальных)» (Там же. Л.8). Всего по данным В.Н. Ламсдорфа православных в католических школах насчитывалось не менее 109 человек, т.е. около 10 % всех учащихся (Там же. Л.9). Среди этих учеников выделялись двое: девочка из школы Сионских Дам и мальчик из «Dom Belloni» в Вифлееме. Они были детьми близких родственников «очень почтенных иерархов здешнего Православного Патриархата». В.Н. Ламсдорф подчеркивал в письме патриарху Дамиану: «Я, очевидно, далек от мысли ставить это в вину упомянутым родителям, а еще менее в вину упомянутым Иерархам. Я привожу этот факт в доказательство того, что дети, даже сравнительно зажиточных Православных родителей, попадают в католические заведения» (Там же. Л.9).
Упрочили свое положение в Палестине к концу XIX в. и протестантские школы, которые делились на английские и германские. По качеству образования В.Н. Ламсдорф выделял германские, которые «считались-бы хорошими даже в Германии» (Там же. Л.8). Шестилетний курс мужских школ соответствовал курсу гимназии в Германии. По данным товарища министра германские школы в Иерусалиме были представлены двумя школами Храмовников (70 учащихся), Евангелической школой (30 учащихся), школой Шнеллера (153 учащихся), школой Диаконесс (120 учениц) (Там же. Л.8). Английских школ в Иерусалиме насчитывалось 12, 5 из них, по мнению В.Н. Ламсдорфа, не представляли интереса, так как специализировались на обучении евреев: две школы London Jews Society, семинария Гобата на Сионе и еще две школы.
Таким образом, обучением протестантов в Иерусалиме занимались пять германских и семь английских школ, в которых обучались 840 учащихся. Получалось, что на 700 проживающих в Иерусалиме протестантов приходилось 840 учащихся в их школах. Секрет статистики заключался (как и в католических школах) в высоком проценте православных учеников в протестантских школах, так как католики в них практически не обучались. По данным В.Н. Ламсдорфа из 840 учеников 500 (60%) были православными (Там же. Л.8). Причем православные учились преимущественно в нескольких учебных заведениях: школе Шнеллера (65% православных), школе Диаконесс (41% православных) и др. Кроме того, планировалось, что при новой германской церкви Искупителя, т.е. в самом центре Святого Града, будет устроена новая школа, которая должна быть ориентирована на православных, так как внутри стен Иерусалима не жило почти ни одного немца. В.Н. Ламсдорф подчеркивал: «Германия также намерена расширить поле своей деятельности. Германский император в своих речах в Константинополе и в Яффе обратил особое внимание на протестантские германские школы. Как усердно он осматривал их здесь всем известно. Но при этом Его Величество высказал здесь большое внимание и к германским католикам. Эти последние присоединятся к прочим и очевидно начнут дружно работать на учебном поле» (Там же. Л.9).
Итак, если к 1898 г. в 15 католических школах обучались всего 109 православных, то в 12 протестантских школах – уже 500 православных, из них 150 в немецких учреждениях и 350 в английских. К этому времени в Иерусалиме функционировали лишь две православные школы кроме семинарии Крестного монастыря с 220 учащимися, т.е. одна школа на 2 тыс. человек, или один учащийся на 18 жителей. При этом в православных школах учились практически только православные (Там же. Л.9).
Примечательно, что, анализируя соперничество в школьном деле на Святой земле, В.Н. Ламсдорф относил к «старым врагам» России духовенство «уже известных католических государств Европы и протестантской Англии», а к новым – Германию и католическое духовенство Южной Америки. Если последнее попало в число «врагов» только благодаря покупке сада «Hortus conclusus» близь Прудов Соломона, под Вифлеемом (Там же. Л.9), то Германия, безусловно, обратила на себя внимание путешествием кайзера Вильгельма по Палестине и Сирии. Резюмируя сказанное, В.Н. Ламсдорф обозначил положение школьного дела «в высшей степени серьезным» и рекомендовал патриарху Дамиану подойти к нему «хладнокровно и внимательно» (Там же. Л.9).
В заключение следует отметить, что в конце XIX в. на Святой земле наблюдался рост рели- гиозного и гуманитарного присутствия европейских держав. При этом, пожалуй, нигде в мире религиозное и гуманитарное присутствие не было так пропитано ощущением политической борьбы, как в Палестине. Это ощущение поддерживалось донесениями российских дипломатов из Иерусалима: практически все религиозные столкновения конца XIX в. трактовались ими как элементы политической борьбы.
Российская политика была направлена на сохранение status quo в палестинских делах. Следуя этой политике, российские дипломаты рекомендовали Петербургу не вмешиваться в политические авантюры, затрагивающие интересы других держав. Примечательно, что и чиновники Священного синода были солидарны с ними в дистанцировании от вмешательства в британские дела. Единственным исключением была помощь в избрании на должность Иерусалимского патриарха Никодима, прямого ставленника Петербурга. Однако поддержка Никодима была направлена скорее против греческого Святогробского братства, чем против деятельности палестинских католиков и протестантов.
Патриарх Никодим, очевидно, имел большое влияние на формирование представлений российских консулов в Иерусалиме о духовном соперничестве в Палестине. Он повсеместно и при любой возможности поднимал вопрос прозалитической деятельности протестантов и католиков, о чем консулы докладывали в Петербург. Если бы Никодим не имел финансовой заинтересованности в нагнетании обстановки вокруг духовных споров, то можно было отнестись к представляемой им информации менее критично. В противном случае приходится задаваться вопросом: патриарх формировал представление чиновников о политической составляющей отдельных инцидентов (таких как визит Блейта в 1890 г.), влияя на донесения консулов в Петербург, или же фиксировал события духовного противоборства?
Отношение к протестантской Британии – главному геополитическому сопернику России – занимало в анализе российских чиновников отдельное место. Если чиновники МИДа были настроены на враждебное отношение англичан, то представители Священного синода скорее преуменьшали возможности и ограничивали цели Британии в Палестине. Однако, признав отсутствие целенаправленной и осознанной прозалитической деятельности протестантских миссионеров в Палестине, невозможно игнорировать тот факт, что к концу XIX в. более половины всех православных учеников в Иерусалиме посещали германские и английские школы, хотя выбор протестантских школ православными семьями был связан скорее не с желанием смены веры, а с отсутствием необходимого числа православных школ на Святой земле. В этой ситуации родители, желающие дать образование своим детям, были вынуждены выбирать между католическими и протестантскими школами, и, возможно, из-за высокого качества образования в протестантских учреждениях или осознанного дистанцирования от католической церкви родители выбирали первые. Безусловно, этот шаг в будущем делал неизбежным выбор их детьми соответствующей конфессии.
Большую обеспокоенность к концу XIX в. у российских дипломатов стала вызывать не политика Франции и Британии, а появление в Палестине Германии. Путешествие кайзера Вильгельма осенью 1898 г. по Палестине и Сирии заставило рассматривать вопросы разграничения сфер влияния европейских держав в новом ракурсе, задуматься о будущем Святой земли в XX в.
Список литературы Школьное дело в контексте духовного соперничества на Святой земле в конце XIX в.: по материалам канцелярии обер-прокурора священного Синода
- Лагузова Н.А. Школьная деятельность Императорского Православного Палестинского Общества в 1905-1914 гг. М., 2012.Вып. 3
- Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой земле и на Ближнем Востоке в XIX -начале ХХ в. М., 2006
- Носенко Т.В. Конфликт вокруг Святых мест в Иерусалиме и политика России (конец XVIII-XIX вв.)//Россия в Святой земле: Док.и матер. М., 2000.Т.2
- Половникова М. Ю. Европейские религиозно-политические организации в Палестине во второй половине XIX в.//Вопросы истории. 2011. № 8, авг
- Сирия, Ливан и Палестина/по В. Кюине. Вып.5: Иерусалимский мутесаррифлик. СПб., 1903
- Хитрово В.Н. Православие на Святой земле//Православный Палестинский сб. СПб., 1881. Т.1, вып.1
- Якушев М.И. Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике Российской империи. 1830-е-начало XX в. М., 2013
- Tibawi A.L. British Interest in Palestine 1800-1901: a Study of Religious and Educational Enterprise. London: Oxford University Press, 1961
- Badeker. Palastinaund Syrien. 1900. 5 Aug.
- Hopwood Derek. The Russian presence in Syria and Palestine, 1843-1914: Church and politics in the Near East. Oxford: Clarendon Press, 1969
- Ben-Arieh Y. Jerusalem in the 19-th century.Emergence of the New City. Jerusalem, 1986