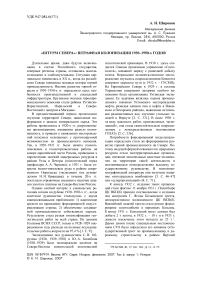«Штурм Севера»: штрафная колонизация 1930-1950-х годов
Автор: Широков А.И.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736848
IDR: 14736848 | УДК: 947.084.6(571)
Текст статьи «Штурм Севера»: штрафная колонизация 1930-1950-х годов
Длительное время, даже будучи включенными в состав Российского государства, северные регионы страны, оставались малозаселенными и слабоизученными. Ситуация кардинально изменилась в ХХ в., когда на российском Севере появились мощные центры горной промышленности. Именно развитие горной отрасли в 1930–1950-х гг. определило здесь особенности производственной и социальной инфраструктуры. Крупными очагами горнопромышленного освоения стали районы Ухтинско-Воркутинский, Норильский и СевероВосточный с центром в Магадане.
В предшествовавший период происходило изучение территорий Севера, накопление информации о запасах минерального сырья. Эти работы проводились в 1920-х гг. разрозненными организациями, имевшими разную подчиненность, и привели к выявлению месторождений полезных ископаемых с прогнозируемой возможностью их промышленного освоения. Так, в 1920–1921 гг. были начаты геологопоисковые и геологоразведочные работы на севере европейской части России, приведшие к определению залежей минеральных ресурсов в районе Ухты и Печоры (геологический отряд профессора А. А. Чернова); в 1921 г. были открыты медно-никелевые руды в районе современного Норильска (экспедиция под руководством Н. Н. Урванцева); в течение 20-х гг. поступали отрывочные сведения о наличии запасов золота и платины на Северо-Востоке России.
Однако особый интерес к упомянутым регионам возник на рубеже 1920–1930-х гг., когда советское руководство столкнулось с двумя взаимосвязанными проблемами: 1) накопление средств на проведение форсированной индустриализации страны; 2) обеспечение создаваемой промышленности собственным сырьем. Результатом стала резкая интенсификация геологических работ по всей стране. По данным Геолкома ВСНХ СССР, только в 1928–1929 операционном году расходы на полевые исследовательские работы возросли на 97,4 % [1. С. 9].
Экспедициями под руководством С. В. Обручева (1926, 1929–1930) и Ю. А. Билибина (1928–1929) было подтверждено наличие на Северо-Востоке значительной золотоносной геологической провинции. В 1930 г. здесь создается Главное приисковое управление «Союз-золота», начавшее наряду с разведкой добычу золота. Норильское полиметаллическое месторождение изучалось подразделениями Комитета северного морского пути (с 1932 г. – ГУСМП). На Европейском Севере в 1929 г. в составе Управления северными лагерями особого назначения была организована Ухтинская экспедиция. Ее задачами являлись оценка промышленного значения Ухтинского месторождения нефти, разведка запасов газа и нефти в Ижем-ском и Печорском районах, выявление источников радиоактивных вод, изучение угольных залежей в Воркуте [2. С. 331]. В июле 1930 г. «в виду важности работ, производимых экспедицией», она стала самостоятельным подразделением с непосредственным подчинением ГУЛАГу [2. С. 336].
Потребности форсированной индустриализации определили столь же форсированное развитие горной промышленности на Севере. Поэтому ведущей формой освоения его природных ресурсов стали экстерриториальные организации, имевшие монопольные властные полномочия на территории своей деятельности и подчинявшиеся непосредственно высшему государственному руководству. В экономикогеографической литературе они получили название «интегральных комбинатов» [3. С. 46–47] или «суперорганизаций» [4. С. 71].
К началу 1932 г. создание таких организаций стало фактом: 11 ноября 1931 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о создании под контролем Г. Ягоды Колымского треста, непосредственно подчиненного ЦК ВКП(б). Важнейшей задачей треста стало резкое форсирование золотодобычи в верховьях Колымы. К концу 1931 г. Колымский трест должен был добыть 2 т золота, в 1932 г. – 10 т и в 1933 г. довести извлечение этого металла до 25 т 1 . Двумя днями позже специальным постановлением СТО было определено его название («Государственный трест по промышленному и дорожному строительству в районе Верхней
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Том 6, выпуск 1: История © А. И. Широков, 2007
Колымы «Дальстрой»). Направления его деятельности определялись как «а. разработка недр, с добычей и обработкой всех полезных ископаемых края и б. колонизация района разработок и организация всевозможных предприятий и работ в интересах успешного выполнения первой задачи» 2 .
Хронологически второй подобной организацией стал Ухто-Печорский трест, созданный «на тех же условиях, что и Дальстрой», после рассмотрения этого вопроса на Политбюро ЦК ВКП(б) 29.10. и 13.11.1932 3 постановлением СТО СССР от 16.11.1932 4 Руководство трестом было поручено ОГПУ. На трест возлагалось выполнение программы развития северных районов Коми АССР (транспортное строительство, освоение месторождений полезных ископаемых – угля, нефти, радия).
Норильские месторождения в это время разрабатывались подразделениями ГУСМП. Но в июне 1935 г. во исполнение постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР Г. Ягода приказал ГУЛАГу НКВД принять строительство Норильского комбината и специально образовать для его осуществления Норильский ИТЛ, подчиненный непосредственно начальнику ГУЛАГа М. Берману. В задачи «Норильского строительства и лагеря» входило: а) строительство никелевого комбината; б) освоение района расположения комбината и его предприятий 5 .
Перечисленные организации стали полновластными хозяевами огромных территорий, на которые уже не распространялась власть местных советских органов, что являлось фактическим нарушением Конституции СССР. Руководство ими было поручено кадровым чекистам. «Дальстрой» возглавил Э. П. Берзин; начальником Ухто-Печорского треста стал Я. М. Мороз; начальником Норильского строительства и лагеря – В. З. Матвеев.
Очевидно, это не было случайным. Ибо в начале 1930-х гг. в процессы колонизации Севера все более активно вовлекались заключенные. В целом это явление было характерно и для царской России, направлявшей осужденных преступников на экономически и геополитически важные окраины для их колонизации (см., например: [6]). Однако в советское время штрафная колонизация окраин страны приобрела намного более значительные масштабы. Закономерным актом советской карательной политики в условиях форсированной индустриализации стало принятие СНК СССР
11.07.1929 Постановления «Об использовании труда уголовно-заключенных», которым предписывалось осужденных к лишению свободы на срок три года и выше передать и передавать впредь в исправительно-трудовые лагеря ОГПУ. ОГПУ же получило задачу расширить существующие и организовать новые ИТЛ (на территории Ухты и других отдаленных районов) в целях колонизации этих районов и эксплуатации их природных богатств путем применения труда лишенных свободы [7. С. 64; 8. С. 142–156]. Нормативное регулирование деятельности ИТЛ стало осуществляться на основании Положения об ИТЛ от 07.04.1930 [7. С. 65–72].
Поэтому работы Ухто-Печорского треста обслуживались УхтПечлагом. Среднегодовая численность заключенных здесь в 1932 г. составила 9 012 человек, в 1933 г. – 20 886; на 1 января 1934 г. – 23 840, 1935 г. – 20 730, 1936 г. – 21 750, 1937 г.– 31 035, 1938 г. – 54 792 человек [9. С. 498].
Для обеспечения «Дальстроя» рабочей силой 1 апреля 1932 г. был специально создан Севво-стлаг 6 . Среднегодовая численность заключенных здесь в 1932 г. составила 10 тыс. человек, в 1940 г. – 176,7 тыс., в 1945 г. – 87,5 тыс., в 1950 г. – 142,8 тыс. человек 7 .
Насыщение подневольными работниками норильского района активно началось летом 1935 г. На 01.01.1936 их насчитывалось 1 257 человек, на 01.01.1937 – 9 139, на 01.01.1938 – 7 927 человек 8 .
Именно заключенные и ссыльные должны были, по замыслу советского руководства, стать основой формирования постоянных трудовых ресурсов на Севере. В этом отношении весьма показательно мнение Г. Ягоды, высказанное им 12 апреля 1930 г. «Нам надо превратить лагеря в колонизационные поселки, – писал он, – …нам надо быстрейшим темпом колонизировать север». И далее: «…я уверен, что пройдут года, и из этих поселков вырастут пролетарские городки горняков» [10. Т. 2. С. 80]. На Колыме для закрепления населения на колонизируемой территории уже в 1932 г. началось предоставление всем заключенным, отбывшим на Колыме не менее года, права колонизации. Для особо отличившихся этот срок снижался до полугода. «Дальстрой» брал на себя оплату проезда семьи колониста на Северо-Восток, выделял безвозвратные ссуды на обзаведение имуществом и т. д. 9
Процессы становления тоталитарного режима в СССР, а также потребности советской индустрии привели к тому, что в 1938 г. моно- польным хозяином Российского Севера становится НКВД. Одновременно произошли структурные изменения в его территориальноотраслевых управлениях, связанные с дифференциацией производственных задач.
4 марта1938 г. трест «Дальстрой» был передан в ведение НКВД и реорганизован в Главное управление строительства Дальнего Севера НКВД СССР «Дальстрой» 10 . 9 июня 1938 г. была определена его организационная и производственная структура 11 , а 16 февраля 1939 г. в соответствие с ней была приведена структура лагерных подразделений Дальстроя на Северо-Востоке России 12 .
С 01.01.1938 УхтПечлаг был реорганизован в Управление Ухтопчорскими лагерями НКВД, включавшего Воркутинский, Печорский, Ухтинский и Усть-Вымьский районы (лагеря) [10. Т. 2. С. 135; 11. С. 185]. В дальнейшем реорганизации здесь, как и в ГУСДС «Дальст-рой», продолжались, но суть этого процесса всегда определялась задачами более рационального производственного использования заключенных.
Результаты деятельности названных нами лагерно-производственных комплексов внешне выглядели, безусловно, беспрецедентными. На Севере были созданы системы транспортного сообщения и крупные центры горной промышленности, поставлявшие советской индустрии ценные виды минерального сырья. За 25 лет деятельности Дальстроя геологическими исследованиями охвачено более 1,9 млн км2, или 68 % общей его территории в его границах на 1 января 1956 г.; добыто золота 1 148,4 т, олова – 62,3 тыс. т, вольфрама – 3 тыс. т, кобальта – 398 т, свыше 10 млн т каменного и бурого угля для собственных нужд; общий объем горных работ, связанных с добычей цветных металлов, за 25 лет составил около 600 млн м3. На обогатительных фабриках было переработано свыше 15 млн т руды; организовано в общей сложности 78 золотодобывающих и 20 оловодобывающих приисковых комплексов, 8 золотодобывающих рудников и фабрик с суммарной производительностью свыше 2 000 т руды в сутки, 18 олово-вольфрамовых и кобальтовых рудников и фабрик с суммарной производительностью свыше 4 000 т руды в сутки 13 .
Особое значение норильского полиметаллического месторождения заключалось в том, что на 1940 г., по выявленным, заведомо не полным данным запасы никеля по нему составляли 48 % всего запаса СССР и 22 % мировых запасов (без СССР), а меди – 10 % запасов СССР и 2 % – ми- ровых 14. На конец 1949 г. запасы промышленных руд в Норильске содержали 4 500 т платиновых металлов, 2,3 млн т никеля, 3,4 млн т меди, 65 тыс. т кобальта [10. Т. 3. С. 435]. Заключенные, работавшие на производственных объектах Норильского комбината, только в 1942–1948 гг. (когда эксплуатация подневольных рабочих была особенно жестокой) дали стране свыше 35 тыс. т никеля, 34,6 тыс. т меди, 177 т металлического кобальта и 17 т платины и металлов платиновой группы 15.
На территории Коми только Ухтинский комбинат к 1949 г. добыл 2,1 млн т нефти, 4 млрд м3 газа, произвел 47 тыс. т газовой сажи, 30 тыс. т лакобитума, 3 377 т асфальтита [10. Т. 3. С. 386].
Важно заметить, что себестоимость конечной продукции на предприятиях НКВД была значительно ниже, чем в других ведомствах. Так, в 1944 г. себестоимость добываемого золота в НКВД была 11,32 руб./г, а на предприятиях НКЦМ – 20,5 руб./г. Далее, соответственно: никель – 20,5 и 31 руб./г, молибден – 65 и 91–115 руб./кг, олово в концентратах – 52,8 и 100–165 руб./кг 16 . Важнейшим удешевляющим фактором, таким образом, становился труд заключенных, для которых не требовалось создания развитой социальной инфраструктуры в колонизируемых районах.
Суровые климатические условия и отдаленность расположения рассматриваемых нами лагерно-производственных комплексов определили их исключительное положение в системе советских карательных учреждений. Так, в июне 1943 г. именно в них были созданы каторжные подразделения на 10 000 человек в каждом 17. Здесь же, наряду с другими районами, постановлением Совета Министров от 21.02.1948 и приказом МВД, МГБ и Генпрокуратуры СССР от 16.03.1948 создавались особые лагеря, предназначенные для содержания «особо опасных государственных преступников» 18. В Коми были созданы – «Речной лагерь» (Воркута) и «Минеральный лагерь» (Инта), в Норильске – «Горный лагерь», на Северо-Востоке – «Береговой». Как явствует из докладной записки заместителя министра МВД В. В. Чернышова и начальника ГУЛАГа МВД СССР Г. П. Добрынина на имя министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова от 27.01.1948, когда велась активная работа по подготовке создания особых лагерей, контингент будущего Берегового лагеря должен был составлять 30 % от контингентов всех особых лагерей. В Норильске предполага- лось разместить 6 % «особого контингента» (добыча руды на участке горы «Угольный ручей»). В Воркуте – также 6 % (строительство шахт и подсобные работы) 19. На капитальное строительство по особым лагерям распоряжением Совета Министров СССР от 11.06.1948 было выделено 28 млн рублей, из которых 10 млн было адресовано «Береговому», 4 млн – «Речному», 5 млн – «Минеральному», 5,5 млн – «Горному» 20. Особые лагеря МВД, перечисленные здесь, отличались высокой смертностью заключенных в процессе их трудового использования.
Судьба перечисленных особых лагерей во многом предвосхитила судьбу лагерной системы на Севере: 26.05.1954 ликвидирован Речлаг, 25.06.1954 – Берлаг и Горлаг, 06.03.1957 – Мин-лаг. В 1950-е же годы ликвидируются Нориль-скстрой и Дальстрой, резко сокращается число лагерных подразделений в республике Коми. Фактически закрытие этих лагерей означало отказ от политики освоения необжитых территорий преимущественно силами заключенных [9. С. 74].
Касательно Сибири С. А. Красильников отмечает, что во многих отношениях штрафную колонизацию невозможно признать успешной, но справедливости ради ее следует считать состоявшейся [12. Т. 3. С. 11]. Этот тезис вполне верен и для всего Севера России. «Штурм Севера» в его штрафном варианте состоялся, но не привел к «освоению» его территорий. Ибо «освоить», с нашей точки зрения, значит «обжить», т. е. создать устойчивую и комфортабельную социальную среду. Поэтому мы, думается, можем утверждать, что в 1930–1950-е гг. регионы Севера были внутренними сырьевыми колониями, чьи ценные природные ресурсы использовались промышленно развитым центром для обеспечения собственных имперских интересов, иллюзий и утопий. Колоссальные объемы добывавшегося здесь минерального сырья не способствовали действительному обживанию его регионов, созданию здесь высокотехнологичных отраслей промышленности и эффективной социальной инфраструктуры (подробнее см.: [13. С. 5–35]).
Колониальный тип проводившейся здесь государственной политики подтверждается данными о массовом исходе производственного населения (преимущественно бывших заключенных, спецпоселенцев и т. д.) в 1950-х гг., когда были сняты ограничения на выезд. Только в Дальстрое за период 1952–1955 гг. численность работников в целом сократилась на 45 %, а численность работников-заключенных умень- шилась более чем в 3 раза 21 . Бывший заключенный В. К. Соболев писал 02.09.1955 родным после освобождения: «…я ни секунды не задержусь здесь, даже ради заработков». В другом письме он, еще будучи в лагере, был более категоричен: «Решительно не хочу даже, чтобы мой труп лежал в этом проклятом богом краю» [14. С. 42, 79]. Лихорадочные попытки решить кадровые проблемы не могли в этой ситуации быть результативными. Руководство Дальстроя оказалось растерянным и дезориентированным. Исполняющий обязанности начальника Дальст-роя М. В. Груша 10.09.1956 прямо констатировал «полную неясность перспективы дальнейшего развития этой системы и особенно ее ведущей отрасли – металлодобывающей промышленности» 22.
Форсированная штрафная колонизация российского Севера 1930–1950-х гг., не способствовавшая складыванию устойчивых и оседлых трудовых ресурсов, привела также к моноот-раслевому перекосу в производственной инфраструктуре его регионов, к значительным негативным экологическим последствиям, к асоциализации аборигенного населения и т. д. Ее содержание определялось технологической отсталостью страны и экстенсивным характером ее экономики, а также геополитическими интересами государства. Поэтому, думается, сегодня, в условиях реформирования экономической и социальной сфер жизни российского общества, учет исторического опыта штрафной колонизаций Севера 1930–1950-х гг. может быть чрезвычайно актуальным в силу того, что в настоящее время многие дальневосточные и северные районы нуждаются в разумной колонизационной политике.
Материал поступил в редколлегию 23.10.2006