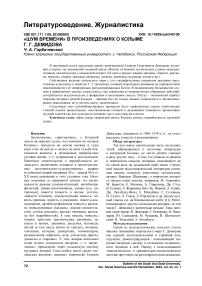«Шум времени» в произведениях о Колыме Г. Г. Демидова
Автор: Горбачевский Ч.А.
Рубрика: Литературоведение. Журналистика
Статья в выпуске: 1 т.24, 2024 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье предложен анализ произведений Георгия Георгиевича Демидова, входящих в корпус так называемой лагерной прозы. Многие из бывших заключенных в своих мемуарах оставили свидетельства о колымской каторге XX века в разных жанрах (романы, повести, рассказы, новеллы, очерки, трагедии, реквиемы, записки, дневники, исповеди, жития и др.). Собственное видение колымского мира с его специфическими северными реалиями представлено в рассказах и повестях Г. Г. Демидова, который акцентирует внимание на запроволочной повседневности с ее непременным ритуализированным бытом. В подавляющем большинстве случаев в приведенных текстах слово ритуал, как совокупность запроволочных обрядовых действий, употребляется исключительно в профанном и негативном смысле. Ритуал - неизменный атрибут тюремно-лагерных реалий Колымы - призван был не только внешне упорядочить и дисциплинировать невольников, но и усилить пытку заключением. Следствием этих (анти)общественных процессов было сравнительно скорое уничтожение «тонкой пленки цивилизации», восстановление которой в дальнейшем становится чрезвычайно трудной задачей как для отдельного человека, так и для социума в целом.
Образ, жанр, творческий метод, колыма, ритуал, первобытность, трудовой лагерь
Короткий адрес: https://sciup.org/147242660
IDR: 147242660 | УДК: 821.111.1.09, | DOI: 10.14529/ssh240109
Текст научной статьи «Шум времени» в произведениях о Колыме Г. Г. Демидова
Заключенные, «пригнанные», с Большой земли на морских судах, под конвоем на «остров Колыму», попадали на долгие месяцы и годы (при этом не всегда и далеко не всем судьба благоволила выжить) в незнакомые первобытные условия жизни, т. е. содержания и эксплуатации. Памятные свидетельства о первобытности колымского заключения оставили в многочисленных документально-художественных жанрах (о событиях второй половины 30-х - начала 50-х гг. XX века) выжившие в этих условиях зэка. Назовем основные из жанрового списка: это разновидности романа (документальный, автобиографический, роман-воспоминание, роман-эссе, антироман); повести (повесть о жизни, детстве, лишнего человека, документальная повесть, повесть-хроника, повесть в рассказах, повесть -воспоминание, автобиографическая повесть); рассказа (невыдуманные рассказы, рассказ-свидетельство, устные рассказы, рассказ очевидца, рассказы без подробностей). А еще письма, новеллы, очерки, трагедии, трагикомедии, реквиемы, записки и записи, дневники, раздумья, исповеди, жития (в том числе жития не святых), моления, хождения, истории, репортажи, комментарии, размышления, наброски, дела, документы, факты, домыслы и «параши». У этих жанров несколько сотен только «колымских авторов», т. е. заключенных, прошедших через колымскую систему трудовых лагерей. Свое особое место среди «колымских авторов» занимает творчество Георгия
Демидова, писавшего в 1960-1970-е гг. «в стол» рассказы, повести и воспоминания.
Обзор литературы
Так или иначе значительная часть исследователей, обращавшихся к изучению литературы о каторжной Колыме, не могла обойти главную в ряду других тему - о том, что убивало (в прямом и переносном смысле) человека, попадавшего не по своей воле на колымский край земли. Огромный массив исследовательской литературы посвящен самому, пожалуй, известному «колымскому автору» Варламу Шаламову, о творчестве которого писали очень многие, например, Ф. Апанович, М. Берютти, Е. Волкова, А. Гаврилова, Дж. Глэд, В. Есипов, Л. Жаравина, Вяч. Вс. Иванов, Л. Клайн, Дж. Лундблад-Янич, Е. Михайлик, С. Соловьев, И. Сухих, Л. Токер, Л. Юргенсон и др. (Более полный список см. на Шаламовском сайте [1]). Работ, посвященных другим «колымским авторам» (в том числе Г. Демидову), значительно меньше. Здесь назовем такие имена: В. Демидова, Г. Померанц, И. Пани-каров, Ю. Самодуров, М. Чудакова, В. Шенталин-ский, Н. Эйделман, Э. Эпплбаум.
Методы исследования
Одной из методологических посылок статьи явилось понимание творческого мира Г. Демидова как единой, последовательной и стройной конструкции, демонстрирующей / описывающей тюремно-лагерную систему и положение подневольного человека в ней. Наряду с использованием типологического и сравнительно-типологического методов при ответе на ряд вопросов использовались общепринятые положения, связанные с методическими приемами целостного анализа литературнохудожественного текста.
Результаты и дискуссия
Памятные свидетельства о первобытности1 колымского заключения оставили бывшие узники в воспоминаниях, посвященных событиям второй половины 30-х – начала 50-х гг. XX века. Среди авторов-мемуаристов: Н. Билетов, Е. Владимирова, П. Галицкий, Е. Гинзбург, Г. Горчаков, П. Демант, А. Жигулин, И. Исаев, Г. Кусургашев, Б. Лесняк, В. Плотников, З. Румер, В. Филин, В. Шаламов, Я. Эфрусси, А. Яроцкий и др.
В рассказах и повестях Г. Демидова2 внимание сосредоточено на запроволочной повседневности с ее детерминированно ритуализированной составляющей: изображением «доисторических» нравов, предметов, образов и пейзажных описаний.
Так, в повести «На перекрестках невольничьих путей» (1969) явлен далеко не худший по колымским меркам сельхозлагерь, расположенный на небольшом острове и напоминающий рассказчику стоянку первобытного человека, выбравшего место для поселения с учетом близости к воде и меньшего количества кровососущих насекомых [3, с. 53–54]. Первобытные обитатели, они же заключенные этого острова, сооружают навес над очагом, вроде папуасского 3, для приготовления пищи [3, с. 53]. В этот же типологический ряд вписана доисторическая предшественница колеса – примитивная волокуша , запряженная лошадью. Такое приспособление по перетаскиванию стогов сена становится незаменимым в условиях колымского сельхозлагеря [3, с. 60]. Двое заключенных (собственно рассказчик повести и Юлия Кравцо-ва4) стоят на сенокосе, облаченные в защитные маски от комаров и гнуса, имеют сходство с языческими божествами непонятного происхождения и напоминают изваяния двух сторожевых фигур [3, с. 68].
Охота на здешнего хозяина тайги (медведя) в границах заколюченных параллелей сродни охоте в доисторические пещерные времена, когда дикого зверя преследовали, загоняли и брали едва ли не голыми руками: «Но представьте себе медведя, пусть даже не очень крупного, упавшего в яму с ложным дном, которого люди пытаются убить с помощью вил и самодельных пик, а он вот-вот из этой ямы выберется! Стены-то у нее – галька, лишь слегка скрепленная илом» [3, с. 70–71].
В рассказе «Начальник» (1965) арестанты, попавшие с экстремального холода и мороза в относительное тепло барака, сравниваются с медлительными оттаивающими рептилиями , удивляющимися, что в этих условиях смогли остаться на плаву и выжить [4, с. 182].
Подневольный человек на колымской каторге в краткие сроки – обычно хватало нескольких недель – обретал тот зоологический эгоизм, который развивался в нем за время общих тяжелых работ и самой примитивной борьбы за существование [3, с. 98]. В описании человеческих чувств и инстинктов рассказчик использует образные сравнения, напрямую связанные не только со знакомым ему колымским контекстом, но и с далекой вольной, прошлой жизнью: «Ревность старше любви настолько же, насколько первобытный ящер старше человека разумного» [3, с. 115].
В повести Г. Демидова «Перстенек» (1969– 1973) мастер на все руки зэка по имени «дядя Ваня» изготавливает мундштуки и перстни не только из привычного подручного дерева, но и из весьма экзотического на Большой земле, однако не в этих краях, – «бивней мамонта5, благо их тут в вечной мерзлоте находили часто» [3, с. 240]6. Любопытно, что кости мамонта мало кого здесь удивляли, тем более что государство, словно повернувшее время вспять, заботливо предоставило заключенным возможность испытать на собственном примере все преимущества обратной колымской эволюции и самим вплотную приблизиться к состоянию вымирающих ископаемых животных. Какая-то часть этих заключенных, подобно своим древним колымским предшественникам из семейства слоновых, до сих пор лежит нетленными в вечной мерзлоте до лучших времен.
Примитивный сверлильный станок упомянутого выше изобретательного «дяди Вани» сконструирован абсолютно по схожему принципу с древним приспособлением для извлечения огня трением [3, с. 240]. Изделия «дяди Вани» колымскими лагерными насельниками разных рангов ценились очень высоко – не меньше различных ценных безделушек европейских первооткрывателей новых земель.
Как известно, основных жизненно необходимых средств для выживания заключенным в северных условиях катастрофически не хватало (одежды, еды, теплых стен в бараке). В свою очередь у подневольных работников необходимые
Литературоведение. Журналистика на общих работах орудия труда, вложенные в их руки представителями власти различных уровней, превращались временами в нечто абсолютно противоположное. Об одном из таких инструментов, неожиданно превратившихся в как бы перекованное орало на меч, т. е. в орудие возмездия, пишет колымчанин Владимир Филин в стихотворении «В тайге» (1958). Подобная перековка в нечеловеческих обстоятельствах, с одной стороны, приближала человека к его первобытно-варварскому состоянию, но с другой – настоятельно напоминала ему же о почти начисто забытом, уничтоженном чувстве справедливости и какого-то собственного достоинства: «<…> Посиди у костра, доходяга, / не бойся! / были предки твои дикари. / Так они у костров дрожали / По ночам до зари / и все дни / голодны. / Только были свободны они. / Ну, а ты – / Каторжанин. / Их пещерная жизнь прошла, / Ты же видел / кое-что лучше. / <…> / Стерегут пулеметные вышки / кругом. / Бригадир все свирепее дышит. / Ты не бойся его, доходяга. / Вот лом! <…>» [6, с. 882–883]. Очевидно, что автор стихотворения проводит линию преемственности от дикарей прошлых времен к одичавшему под натиском запроволочной жизни современному человеку. И оказывается, что в каком-то смысле сравнение воли предков-дикарей, чья пещерная жизнь давно канула в Лету, с настоящей пещерной жизнью, заместившей свободу и волю лагернику XX века, – не в пользу последнего. Для лирического героя стихотворения избавление от бригадира-садиста, готового палкой, ломом, чем угодно погнать еле живых, измученных людей на ненавистную, убивающую работу7, становится жизненно необходимым с помощью тех же подручных орудий труда (лома, кирки, кайла). Едва ли нужно говорить о том, что такой способ избавления от бригадира вовсе не приближал зэка к свободе, но отодвигал ее на еще более неопределенный срок. Несмотря на это, доведенный до отчаяния человек в сложившихся условиях о высоких материях особенно не размышлял, главным для него было освобождение от ежедневных издевательств независимо от последствий.
Безысходность колымского открытого и одновременно предельно замкнутого пространства усугублялась тем, что побег отсюда на Большую землю был крайне трудным. Тем не менее, тема побегов – одна из лейтмотивных в документальнохудожественной прозе, посвященной каторжной Колыме. Побег – это отчаянная попытка избавиться от каторжной первобытности, попытка вырваться из крепких колымских объятий на свободу, как правило, весьма зыбкую и смертельно опасную. В рассказе Г. Демидова «Убей немца» (1965) повествователь разделяет распространенное среди колымчан мнение о том, что «…побег с Колымы все здесь считают делом почти невозможным даже для людей, которых не держат за оградой лагеря под постоянным наблюдением конвойного» [3, с. 278]. О трудностях «ухода во льды» свидетельствовали Д. Алин, Э. Багиров, Г. Вагнер, Г. Нурмина, П. Демант, А. Жигулин, Б. Лесняк, Г. Темин, В. Шаламов, А. Яроцкий и др.
В повести «На перекрестках невольничьих путей» (1969) дорога, казавшаяся потенциальным беглецам ведущей к освобождению из неволи, на самом деле приводит в тупик, т. е. упирается в бесконечную водную гладь. А в противоположной от моря сухопутной стороне разместилось не менее непреодолимое пространство, которое, по выражению А. Чехова, «знали только перелетные птицы» [7, с. 42] – тундра и тайга. У беглецов, решившихся на отчаянный, смертельно опасный шаг, пробуждалась древняя энергия отчаянной смелости, гнавшая их прочь от лагеря8: «Людей в подобных случаях нередко выручает заложенный в них громадный запас первобытной выносливости и терпения» [3, с. 250]. Вохровская погоня за беглецами, в свою очередь, превращалась в первобытную охоту на человека.
После финального эпизода охоты на человека (повесть «Перстенек»), когда беглецы уже настигнуты и убиты вохровцами, в тексте появляется первобытный языческий образ, поставивший точку в сюжете с погоней. На догоравшем костре рядом с ручьем оказался один из застреленных и упавших в него беглецов. Он «лежал лицом вниз поперек высовывающегося из воды подобия древнеязыческого жертвенника, на котором еще дымились остатки костра» [3, с. 263]. Убитые были тут же зарыты рядом с импровизированно устроенным жертвенным костром, а кисти рук у беглецов предварительно и предусмотрительно отрезаны для предъявления начальству вещественных доказательств поимки бежавших преступников и дальнейшей процедуры дактилоскопии. Подобная жертвенная церемония с приношением даров на алтарь лагерных богов, едва ли подразумевающая «солидарность между служителем, божеством и жертвуемой вещью» [8, с. 40], – нередкая практика на Колыме описываемых времен. В случае убийства беглых зэка на сравнительно близком расстоянии от лагеря, кисти рук можно было не отрезать. Трупы беглецов в этом случае и в соответствии с установленными асимметричными9 первобытно-ритуальными манипуляциями выставлялись на всеобщее обозрение перед лагерными воротами в виде пугал из когда-то живых людей – в назидание остальным заключенным, для их предостережения и устрашения.
В рассказе «Убей немца» (1965) мысли колымских мальчиков Саши и Кости созвучны мыслям обитателей не здешних, а более южных, далеких и малоизведанных земель. Саша и Костя, юные старожилы колымского края, мечтают соорудить из древесных стволов собственное «плавучее средство», как это делают «аборигены архипелагов Тихого и Индийского океанов» [3, с. 279], потом уплыть с их помощью на материк, на фронт, чтобы сражаться с фашистскими врагами. На впечатлительное детское воображение безотказно действует пропагандистский плакат, выразительно изображавший проткнутую насквозь штыком голову немецкого солдата. Повествователь недвусмысленно комментирует реакцию мальчиков на увиденное: «Их целиком захватило садистское вдохновение художника, которое так легко передать дикарям и детям» [3, с. 276]. Находясь под гипнозом броской идеи плаката, Саша и Костя убивают случайного человека – русского немца из Сибири, Вернера Линде (филолога и преподавателя немецкого языка), который был арестован в 1937 году как иностранец-немец по статье социально-опасный элемент (СОЭ) и отправлен по этапу на Колыму. Они, по детскому недомыслию, и представить себе не могли, что дикие идеи нацистов вместе с фашизмом Вернеру Линде были органически чужды и далеки от его взглядов, мировоззрения и этических представлений [3, с. 294].
Так, плакатный прием сослужил злую службу романтически и воинственно настроенным юным колымским аборигенам Саше и Косте.
Выводы
Несмотря на то что колымская пещерная первобытность едва ли является уникальной в общей запроволочной системе сталинских трудовых лагерей, тем не менее по своей крайней удаленности этого отдельного «государства в государстве» от границ Большой земли, каторжная Колыма внесла свои специфические штрихи в разветвленную картину принудительного труда и тяжелых общих работ в мире «смещенных масштабов».
Г. Демидов, создавая собственную картину колымской планеты, смог найти в ней не только то, что коверкало, ломало и уничтожало человеческое в человеке, но и попытался увидеть в «этом вогнутом зеркале чувств и поступков» [10, с. 164] то, что способствовало и помогало в подземном аду сохранить заключенному-человеку «невогнутозеркальные» человеческие качества и черты, его облик, чувства и поступки.
Список литературы «Шум времени» в произведениях о Колыме Г. Г. Демидова
- https://shalamov.ru/.
- Ожегов, С. И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 1985. – 797 с.
- Демидов, Г. Г. Любовь за колючей прово-локой: повести и рассказы / Г. Г. Демидов ; публикация В. Демидовой ; предисл. М. Чудаковой. – М.: Возвращение, 2010. – 360 с.
- Демидов, Г. Г. Чудная планета: рассказы / Г. Г. Демидов ; сост., подгот. текста, подгот. ил. В. Г. Демидовой ; послесл. М. Чудаковой. – М.: Возвращение, 2008. – 360 с.
- Шаламов, В. Т. Собрание сочинений: в 4 т. / В. Т. Шаламов ; сост., подгот. текста и примеч. И. Си-ротинской. – М.: Худож. лит., 1998. – Т. 1. – 620 с.
- Поэзия узников ГУЛАГа: антология / под общ. ред. акад. А. Н. Яковлева ; сост. С. С. Виленский. – М.: МФД: Материк, 2005. – 992 с. – (Рос-сия. XX век. Документы).
- Чехов, А. П. Остров Сахалин (Из путевых записок) / А. П. Чехов // Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. – М.: Наука, 1987. – Т. 14–15. – С. 39–372.
- Леви-Строс, К. Первобытное мышление / К. Леви-Строс ; пер., вступ. ст., примеч. А. Остров-ского. – М.: ТЕРРА–Книжный клуб: Республика, 1999. – 392 с.
- Демидов, Г. Г. Оранжевый абажур: пове-сти / Г. Г. Демидов ; публикация В. Демидовой ; пре-дисл. М. Чудаковой. – М.: Возвращение, 2009. – 376 с.
- Тэрнер, В. Символ и ритуал / В. Тэрнер ; сост. и автор предисл. В. А. Бейлис. – М.: Наука, 1983. – 277 с.
- Шаламов, В. Т. Собрание сочинений: в 4 т. / В. Т. Шаламов ; сост., подгот. текста и примеч. И. Си-ротинской. – М.: Худож. лит., 1998. – Т. 2. – 509 с.
- Эпплбаум, Э. ГУЛАГ. Паутина Большого террора / Э. Эпплбаум ; пер. с англ. Л. Мотылёва – М.: Московская школа политических исследова-ний, 2006. – 608 с.
- Демидова, В. Воспоминания об отце / В. Демидова // Г. Г. Демидов. Чудная планета: рас-сказы ; сост., подгот. текста, подгот. ил. В. Г. Деми-довой ; послесл. М. Чудаковой. – М.: Возвращение, 2008. – С. 5–12.
- Horvitz, L. A. Encyclopedia of War Crimes and Genocide / L. A. Horvitz, C. Catherwood. – New York: Facts On File, 2006. – 582 p.
- Apanowicz, F. “Nowa proza” Warłama Szałamowa (problemy wypowiedzi artystycznej) / F. Apanowicz. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersyte-tu Gdańskiego, 1996. – 198 s.
- Krupa, B. Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego / B. Krupa. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydaw-ców Prac Naukowych UNIWERSITAS, 2006. – 174 s.