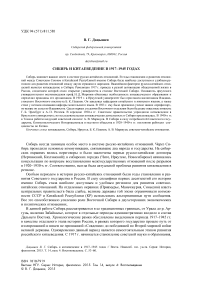Сибирь и китаеведение в 1917-1945 годах
Автор: Дацышен Владимир Григорьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Сибирь занимает важное место в системе русско-китайских отношений. В годы становления и развития отношений между Советским Союзом и Китайской Республикой именно Сибирь была наиболее доступным и удобным регионом для развития отношений между двумя странами и народами. Важнейшим фактором русско-китайских отношений является китаеведение в Сибири. Революция 1917 г. привела к резкой активизации общественной жизни в России, следствием которой стало открытие университета в столице Восточной Сибири. Основатель иркутского университетского востоковедения проф. Н. Д. Миронов обосновал необходимость китаеведческого образования и определил принципы его организации. В 1919 г. в Иркутский университет был приглашен воспитанник Владивостокского Восточного института Б. К. Пашков. Он заведовал кафедрами китайского и японского языков, а также стоял у истоков основания кафедры монгольского языка. В 1923 г. ему было присвоено ученое звание «профессор», но вскоре он уехал во Владивосток. Среди первых студентов Восточного отделения были будущие известные китаисты Г. Б. Эренбург и А. П. Рогачев. В середине 1920-х гг. Советское правительство упразднило китаеведение в Иркутском университете; но исследовательская китаеведческая деятельность в Сибири продолжалась. В 1940-хгг. в Томске работал ведущий советский синолог А. В. Маракуев. В Сибири в силу потребностей Советского государства, Коммунистического Интернационала и местного общества в 1920-1940-х гг. постоянно работали специалисты по Китаю.
Китаеведение, сибирь, иркутск, б. к. пашков, а. в. маракуев, советско-китайские отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/147219328
IDR: 147219328 | УДК: 94
Текст научной статьи Сибирь и китаеведение в 1917-1945 годах
Сибирь всегда занимала особое место в системе русско-китайских отношений. Через Сибирь проходили основные коммуникации, связывавшие два народа и государства. На сибирских окраинах велись переговоры и были заключены первые русско-китайские договоры (Нерчинский, Кяхтинский); в сибирских городах (Чите, Иркутске, Новосибирске) начинались консультации по вопросам восстановления межгосударственных отношений после разрывов в 1920–1930-х гг. Соответственно, всегда была актуальной проблема развития китаеведения в регионе.
Особым периодом в истории русско-китайских отношений были годы становления и развития Советского государства в России. В силу специфики первых десятилетий его истории именно Сибирь стала наиболее доступным и удобным регионом для развития советско-китайских отношений. На отдаленных окраинах (Приамурье, Маньчжурия, Синьцзян) власть центральных правительств была слабее, великие державы той эпохи ограничивали возможности СССР и Китайской Республики (КР) использовать альтернативные пути сообщения. Все это способствовало усилению роли Восточной Сибири в двухсторонних экономических и политических отношениях.
В данной работе Сибирь рассматривается в ее традиционных границах, от Урала до р. Аргунь, включая Забайкалье, которое в отдельные периоды административно входило в состав Дальнего Востока. Хронологические рамки обусловлены выделением периода 1917–1945 гг. в качестве отдельного этапа истории России, в рамках которого государство прошло путь от изолированной и никем не признанной «Совдепии» до победившей во Второй мировой войне великой державы. Одновременно данный период является самостоятельным этапом развития российского китаеведения. С 1917 г. начинается становление советской науки и образования,
Дацышен В. Г. Сибирь и китаеведение в 1917–1945 годах // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 4: Востоковедение. С. 53–60.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 4: Востоковедение
прошедших ряд последовательных этапов. Однако массовые политические репрессии конца 1930-х гг. и тяжелые потери времен Великой Отечественной войны прекратили существование большинство советских востоковедных школ и учреждений, «подвели черту» под всем советским китаеведением той эпохи. В послевоенный период началась уже история современного российского китаеведения. Так, в 1945 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук акад. С. Л. Тихвинский. Как справедливо отмечал «патриарх» сибирского востоковедения В. Е. Ларичев [2012. C. 79], именно в середине ХХ в. произошла «смена одного поколения ученых другим, которому предстояло продолжить изучение стран дальней и центральной частей Востока во вторую половину ХХ в.». Ученые, пришедшие в науку в тот период, и сегодня, во второе десятилетие XXI в., стоят во главе современного российского китаеведения.
Российское китаеведение зародилось и оформилось в XVIII в., сразу выйдя на передовые позиции европейской науки. У истоков отечественного китаеведения находилась школа восточных языков в Иркутске, откуда вышел И. К. Рассохин, первый профессиональный китаевед. Первым же преподавателем китайского языка собственно в Сибири был, вероятно, воспитанник Тобольской духовной семинарии А. С. Агафонов, который в 1780-х гг. в Иркутске написал несколько крупных работ по истории Китая. В XIX в. доля сибиряков в общем числе российских китаеведов уменьшилась, и до 1917 г. в Сибири не появилось системного китае-ведческого образования.
Октябрьская революция привела к коренным изменениям во всех сферах жизни российского общества. В первую очередь эти изменения затрагивали гуманитарные науки и образование (в том числе синологию). Для новой правящей партии в России китайские национально-революционные силы были ближайшими союзниками в борьбе против западных держав. Также значительно актуализировалась для новой власти и русского общества проблема китайской миграции.
В годы Гражданской войны вместе с другими эвакуированными приезжали в Западную Сибирь и востоковеды, такие как специалист по культуре Средней Азии, будущий директор Музея Востока в Москве Б. П. Денике, написавший ряд работ по искусству Китая. Но в Томском университете в 1919–1920 гг. он читал лекции, не связанные с востоковедением. В 1920 г., после того как в Томске скончался выдающийся сибирский ученый и общественный деятель Г. Н. Потанин, была «закрыта» интереснейшая страница истории изучения Китая путешественниками-сибиряками.
Иная ситуация складывалась в первые послереволюционные годы в столице Восточной Сибири. В августе 1918 г. в Иркутске был основан университет, где сразу же открыли историко-филологический факультет. В газете «Дело» сообщалось: «Авторитетные ученые ... вырабатывавшие устав первого университета Вост. Сибири, ввели в план его историкофилологического факультета восточное отделение. Другими словами – новый университет должен стать одним из немногих пока русских центров востоковедения» [Миронов, 1918].
При основании Иркутского университета туда в качестве экстраординарного профессора был назначен известный индолог Н. Д. Миронов. В начале ХХ в. он был доцентом Московского университета и одновременно активным деятелем партии эсэров. После Февральской революции, уже будучи приват-доцентом Петроградского университета, он занял руководящие должности в структурах контрразведки. Приход в Петрограде к власти большевиков заставил Н. Д. Миронова выехать в Иркутск.
В уже упомянутой статье он развернуто и основательно озвучил обоснование необходимости университетского китаеведения в Восточной Сибири: «Не только ученый экономист, но всякий обыватель видит воочию значение для потребителя Вост. Сибири монгольского мяса, маньчжурского хлеба, японских фабрикатов, и также и роль китайского и корейского (“желтого”) труда. Не даром еще при Петре Вел. в Иркутске (в Вознесенском монастыре) была основана русско-монгольская школа, состоявшая под покровительством еп. Иннокентия Кульчицкаго... Мы не говорим о пришлых китайцах и корейцах, изучить которых нельзя без изучения вообще китайской и корейской культуры... Восток, востоковедение – занятия чересчур общие, широкие... Обычно у нас под востоковедением понимают изучение древних и новых культур Азии и части Африки. Пожалуй, нам придется внести и сюда некоторые ограничения... с точки зрения практической наибольшее значение для нас имеют страны и на- роды... Монголия, Маньчжурия, Китай, Япония, Корея... Все эти страны в большей или меньшей степени буддийские. Это ведет нас к родине буддизма, Индии, и к передаточному этапу – Тибету... Тяжелые ошибки петербургской дальневосточной политики царского периода дорого стоили России. А как чисто ложная политика вытекала из грубаго невежества! Если мы желаем быть сильными, развиваться экономически и духовно в Восточной Сибири, на которую сейчас направлено столько вожделений, – мы должны рационально поставить изучение наших соседей, – народов Востока» [Там же].
Профессор Н. Д. Миронов дал свое видение принципов и содержания будущего иркутского китаеведения: «Может быть, еще важнее вопрос о характере преподавания. Оно, может, ведь преследовать цели теоретические или практические. Факультет Восточных языков Петроградского университета стремится вести дело скорее теоретически... При создании Влади-востокскаго института имели в виду подготовку кадров востоковедов-практиков... Для чисто научной разработки востоковедения он сделал очень немного. К сожалению, и в области практической он не оправдал ожиданий: лишь небольшой процент окончивших институт приложил свои знания к жизни, посвятил себя той деятельности, для которой создано это учебное заведение. Очевидно, необходимо найти некий средний путь... чтобы ни требования науки, ни практические нужды не терпели ущерба. Нам представляется весьма целесообразной постановка этого дела в Берлине. Здесь в университете существуют кафедры восточных языков, преследующие исключительно теоретические интересы. Наряду с ними в семинарии восточных языков, состоящем при университете же – ведутся чисто практические курсы востоковедения, в широком смысле слова... При подобной постановке профессор (с довольно ограниченным кругом студентов) может посвятить свои силы научному изучению, наприм., Китая – его языка, литературы и культуры... Тогда как компетентный преподаватель практик (лектор) руководит изучением живого языка, пользуясь газетами, образцами официальной и торговой корреспонденции и др. В семинарии кроме языка изучается, конечно, коммерческая география, туземное право, преподаются необходимые сведения по международному праву, история сношений России и (Сибири) с данной страной и т. п. Восточное отделение представляется нам всем аналогичным другим отделениям историко-филологического факультета (историческое, русско-славянское, классическое и т. д.), т. е. специализация начнется лишь с V семестра. В семинарий же могли бы допускаться не только студенты, но все желающие при условии минимального образовательного ценза...» [Там же]. Восточное отделение в Иркутском университете, где преподавались санскрит, монгольский, китайский, тибетский и японский языки, открылось в 1919 г.; в следующем году проф. Н. Д. Миронов возглавил там кабинет востоковедения.
В 1919 г. в Иркутский университет приехал работать воспитанник Восточного института Б. К. Пашков. За два года до этого он окончил Восточный институт сразу по двум отделениям – маньчжуро-китайскому и японско-китайскому, а затем дополнительно занимался монгольским и корейским языками. В Иркутском университете Б. К. Пашков заведовал кафедрами китайского и японского языков, а также стоял у истоков кафедры монгольского языка. В 1923 г. ему присвоили звание профессора, но вскоре он уехал во Владивосток, а затем и в Москву. До 1926 г. Б. К. Пашков заведовал кафедрой китайского языка Дальневосточного университета, и результатом его научных исследований стала изданная во Владивостоке небольшая, но основательная работа «Основные этапы в развитии китайского языка».
Востоковедение в Иркутском университете развивалось далее на факультете общественных наук. К началу 1923 г. там работал 41 преподаватель и учился 391 студент (по числу студентов это был самый маленький из четырех факультетов университета). В качестве учебно-вспомогательного учреждения факультета общественных наук Иркутского госуни-верситета в адресно-справочной телефонной книге «Весь Иркутск на 1924 г.» назван Кабинет китайского языка, которым заведовал преподаватель К. Г. Каттерфельд. Воспитанник Восточного института, он затем долго работал в российской контрразведке, имел опыт организации преподавания китайского языка в войсках Иркутского военного округа. Будучи пленным белым офицером, он избежал расстрела и с июня 1920 г. стал преподавать китайский язык в Иркутском народном университете и в Иркутском государственном университете. В иркутской летописи Н. С. Романова [1994. С. 453] за 29 марта 1922 г. отмечено: «Открыты Иркутские курсы языков, учрежденные профессором Г. Ю. Маннс и проф. Университета
К. Г. Каттерфельдт (английского, немецкого, французского, японского, китайского, монголобурятского)». К. Г. Каттерфельд преподавал в Иркутске китайский язык до конца 1920-х гг. В «Списке профессорско-преподавательского состава Восточного отделения Иркутского университета (1918–1925 гг.)» в качестве помощников преподавателей, ведущих практические занятия по китайскому языку и каллиграфии, указано пять китайцев (Ман-Чин-Гуань, Ван-Кан-Чинь, Лю-ше-Чин, Джао-Дзун-Сан, Джау-Си-Ку).
Среди первых студентов Восточного отделения были Г. Б. Эренбург и А. П. Рогачев. После закрытия отделения им пришлось покинуть Сибирь и завершать образование в Москве. Тем не менее некоторое число молодых востоковедов получили образование в университете. В летописи Иркутска за 1922 г. отмечено: «29 августа на курсах восточных языков при Иркутском университете выпуск 30 воспитанников, окончивших 2-летний курс» [Там же. С. 459].
Востоковедное образование, как и сам университет, столкнулось в Иркутске с серьезными трудностями. После падения правительства Колчака многие университетские ученые покинули Сибирь. Так, например, летом 1920 г. Иркутский университет сразу оставило 11 профессоров, 16 преподавателей и др. Новая власть, советская, не имела возможности и желания поддерживать университетское образование, особенно его гуманитарные направления. Уже в 1923 г. в официальных изданиях Сибревкома отмечалось: «Второй больной наш вопрос – это нищенская оплата труда преподавателей. В настоящий момент начался отлив преподавательских сил в культурные центры России... В дореволюционное время сюда привлекали людей усиленной оплатой труда. Теперь это ушло в область предания. Да мы и не говорим о привлечении. Нам бы хотелось только одного, чтобы наши то силы, вскормленные и выученные в Сибирских школах, не утекали в Европейскую Россию... утечка культурных сил Сибири приняла угрожающие размеры» [Черемных, 1922. С. 87]. В официальном издании Сибревко-ма приводились данные о том, что к началу 1923 г. оклады работников вузов всех категорий были примерно в четыре раза меньше официально установленного прожиточного минимума для этих категорий, и оклад профессора был почти в шесть раз меньше, чем оклад любого заведующего отделом, и даже меньше, чем оклады поломойки или сторожа в местной администрации (Сибпромбюро ВСНХ) [Там же. С. 67].
В 1924 г. сами иркутяне писали: «Университет не был достаточно оборудован, почти не отапливался, преподаватели должны были для поддержания своего существования браться за посторонние, далеко не соответствующие их специальности, заработки. При таких условиях нельзя было, конечно, рассчитывать на приток научных сил, наоборот, многие уезжали» [Сибирский…, 1924. С. 123]. После присоединения Дальнего Востока к Советской России Сибрев-ком посчитал, что китаеведение на вверенной им территории является излишним. На это, в частности, указывает и решение от 15 февраля 1923 г. «Снестись с Дальревкомом о принятии последним части расходов по содержанию иркутских ВУЗ-ов на свой счет» 1. В 1924 г. факультет общественных наук, в составе которого имелось восточное отделение, был ликвидирован. Отделение не вписывалось в новую структуру университета и решением Наркомата просвещения было закрыто.
Вся Сибирь, за исключением Забайкалья, перешла под власть большевиков к началу 1920 г. Партийно-государственные задачи большевистского правительства требовали присутствия в Сибири советских китаеведов. Китайский отдел «Секции восточных народов при Сиббюро ЦК РКП(б)» возглавлял партийный деятель М. М. Абрамсон, будущий редактор китайско-русского словаря В. С. Колоколова и ученый секретарь московского НИИ по Китаю. В «Докладе Исполкому Коминтерна об организации и деятельности Секции Восточных народов при Сиббюро ЦК РКП(б)» от 21 декабря 1920 г. говорилось: «Китайский отдел возглавляется русским коммунистом т. Абрамсоном (студент Восточного института, свободно владеет китайским языком). Деятельность отдела слагается из двух естественных частей: 1) В первую очередь и главным образом, работа в самом Китае... 2) Объединение и воспитательная коммунистическая работа среди китайцев, живущих в России... Из Иркутска в Китай послан первый курьер, секретарь китайского отдела, владеющий китайским языком Хохловкин В. Л.» [ВКП(б).., 1994. С. 51–52].
Вскоре в Иркутске был создан Дальневосточный секретариат Коминтерна. Весной 1921 г. в столицу Восточной Сибири приехали из Китая некоторые советские партийные деятели, в том числе и получившие известность как специалисты по Китаю, например Г. Н. Войтинский. В 1921 г. в Иркутске жил и работал китаевед И. К. Мамаев. В 1920-х гг. разрабатывались проекты открытия в Иркутске специального учебного заведения для китайцев.
Иркутск был не единственным центром в Сибири, где работали крупные российские китаеведы. Например, в 1921 г. из Пекина в Читу переехал помощник заведующего телеграфного агентства «Дальта» Ф. Е. Ильяшенко, получивший китаеведческую подготовку в Окружной подготовительной школе переводчиков при Восточном институте во Владивостоке. Здесь он до октября 1923 г. возглавлял информационный отдел Разведывательного управления штаба Народно-революционной армии Дальневосточной республики. Затем Ильяшенко некоторое время работал в Чите начальником финансово-экономического бюро Дальневосточного банка, с которым и переехал в середине 1924 г. в Хабаровск. В 1922 г. из Китая вернулся в Россию первый секретарь советской дипломатической миссии в Пекине известный востоковед К. А. Харнский. В Чите он работал заведующим отделом печати Дальбюро ЦК РКП(б), где «…много пишет о Японии, Китае и обстановке на Дальнем Востоке... После освобождения Приморья от иностранных интервентов К. А. Харнский приезжает во Владивосток, и ему поручается заведование кафедрой... на восточном факультете...» [Серов, 1999. С. 52].
Говоря об иркутском китаеведении, можно привести много примеров связей региона с Китаем и китаеведением. Крупнейший советский специалист по истории отечественного китаеведения В. Н. Никифоров [1970. С. 81] писал: «В то время из Иркутска вышло несколько лиц, так или иначе связанных с новым, революционным интересом к Китаю. Автор статьи 1920 г. о Китае – Я. Д. Янсон – один из руководителей иркутской большевистской организации... К моменту революции в Иркутске существовал марксистский кружок учащихся... активным участником кружка был А. Т. Якимов. Впоследствии историк-монголовед. К кружку принадлежали «иркутские три сестры» Ю. В., З. В. и Н. В. Мосины... Младшая из них, Нина, стала женой Я. Д. Янсона; старшая, Юлия – жена известного китаеведа А. Ивина – автор ряда статей и брошюр о Китае; третья из сестер – Зоя – одно время была на дипломатической работе в Китае, позже – известный историк, специалист по странам Запада, доктор исторических наук».
В Советской России новым институтом, призванным объединить востоковедов, стала Всероссийская (позднее – Всесоюзная) научная ассоциация востоковедов (ВНАВ). Эта организация была создана декретом ЦИК РСФСР в декабре 1921 г. и решала задачи объединения советских ученых для всестороннего изучения стран и народов Востока вплоть до самой своей ликвидации в 1930 г. Первым ее главой был М. П. Павлович (Вельтман). В январе 1922 г. отделение ВНАВ во главе с китаеведом Б. К. Пашковым открыли в Иркутске, затем появилось отделение в Чите. Во второй половине 1920-х гг. активность ВНАВ пошла на спад.
Еще одной организацией, объединявшей работу востоковедов в российских регионах, было Русское географическое общество (РГО), которое большое внимание уделяло Китаю. Пример тому – экспедиция в Монголию и Тибет П. К. Козлова, которая внесла значительный вклад в изучение истории Китая и Сибири. РГО имело свои отделения в разных регионах, и в числе первых в Советском Союзе было открыто отделение «нового» РГО в Иркутске, а в апреле 1924 г. – в Чите. Ведущие посты в Русском географическом обществе занимал иркутский проф. Н. Н. Козьмин, который также был избран действительным членом ВНАВ. Этот историк-востоковед являлся известным исследователем проблем истории Центральной Азии.
В Сибирь иногда направляли китаистов власти, иногда они и сами выезжали туда на работу. В дневниках акад. В. М. Алексеева было записано: «Распределили китаистов: в Иркутск – Штукина, в Москву – Васильева, во Владивосток – Драгунова» [Баньковская, 2010. С. 200]. С апреля 1929 г. по июнь 1931 г. в Иркутске жил Ф. Е. Ильяшенко (этот советский разведчик был арестован китайской полицией в Пекине и, после освобождения, вернулся на родину), который работал ответственным секретарем журнала «Золото и платина».
Среди иркутских изданий необходимо отметить небольшую по объему монографию профессора Иркутского университета Б. Д. Сперанского «Китайская республика. Очерк государственного устройства и управления», напечатанную в университетском издательстве 3-тысячным тиражом. Автор во введении указывает: «Предлагаемый очерк автор считает лишь опытом, попыткой приблизиться к разрешению поставленной задачи, при том проделанной в услови- ях крайне неблагоприятных для работы – отсутствия источников и бедности литературных материалов» [1925. С. 4]. Б. Д. Сперанский не владел китайским языком, на что он сам обращал внимание читателей: «Большинство материалов законодательного характера имеются лишь на китайском языке, которым автор, к сожалению, не владеет, и ему приходилось пользоваться лишь литературой на английском языке и то в большинстве не специального, а справочного характера, как-то: China a source book of information, The China year book – 1923, Commercial, Handbook of China и др. Лишь одна работа специального характера, а именно книга Н. В. Morse – Trade and Administration, of China» [Там же]. Тем не менее ему удалось раскрыть и проанализировать проблемы политического развития Китая в XIX – начале ХХ в.
Элементы китаеведения в сибирских регионах имели место в рамках работы по ликвидации неграмотности среди китайских мигрантов. Кроме того, в Иркутске в 1920–1930-х гг. сохранялось радиовещание на китайском языке. Наличие возможностей для производства «китаеязыч-ной продукции» в Сибири подтверждается решением Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) за 1932 г.: «В соответствии с указаниями центра ликвидировать, как не имеющее соответствующей материально-технической радио-базы радиовещание на татарском, корейском, немецком, латышском, хакасском, карагасинском, еврейском и др. языках, сохранив в системе краевого радиовещания национальное вещание на бурятском, монгольском, якутском и китайском языках» 2. Готовился в Сибири и китаеязычный материал для советских газет. Например, в Протоколе заседания Секретариата Восточно-Сибирского Крайкома ВКП(б) от 25/VIII–8/IX 1932 г. записано: «…2. Создать в Иркутске редакционный аппарат, возложив на него ответственность за организацию и обработку материала на китайском языке...» 3.
Важным фактором сохранения китаеведения в Сибири было наличие в сибирских городах консульств Китайской Республики. Китайское консульство в Иркутске в 1920 г. было едва ли не единственным для РСФСР «окном в Китай». По крайней мере, представители Москвы, правда, от имени Исполкома Союза китайских рабочих, просили у консульства следующую информацию: «1/ состав Правительства, 2/ имя президента, 3/ время созыва Парламента, 4/ политическое положение Южного Китая» 4. В качестве примера научной жизни в Иркутске в 1920-х гг. можно привести выдержку из письма русской жены китайского консула Чжан Вэя ( 张玮 ): «Муж читал маленькое сообщение в Археологич. секции универс. “Следы пребывания китайцев в Сибири и на Байкале”. Кроме того, делал маленький доклад в Ассоциации востоковедения. У нас часто бывает проф. Петрэк (археолог, этнограф), а также и другие профессора. Являются со своими “трудами”... Все ужасно интересно. Недавно мы прочли Грум-Гржимайло... Там автор проводит теорию о “ди” и динлинах и уверяет, что династия Чихоу и вся китайская культура – все от “ди”. Муж возмущен... Написал критич. заметку, будет напечатана в трудах ВСОРГО. Муж здесь также член Арх. секции и кандидат ВСОРГО» [Соловьев, 2002. С. 78].
В 1930-х гг. в Сибири имели место попытки наладить системное китаеведение. Например, в Восточно-Сибирском крайкоме ВКП(б) в 1931 г. была создана специальная научноисследовательская группа по изучению Китая. Однако видимых научных результатов не было. Показательным представляется документ из фондов Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) за 1933 г. «Итоги годичной работы группы научно-исследоват. по изучению Китая». В нем говорилось: «Год назад, благодаря усилию троцкиста Потепанова, при культпропе Крайкома партии была организована научно-исследовательская группа по изучению Китая… благодаря тому, что участники группы не уделили большевистского внимания к работе группы, эта группа целиком использована Потепановым в целях организации своих предприятий. Троцкист Потепанов, пользуясь группой, выработав звания исследователя по Китаю / но фактически этот исследователь не может использовать ни китайского языка, ни английского, не знаю каким образом он может читать первые источники-материалы…» 5.
Важным фактором истории отечественного китаеведения стали политические репрессии в СССР. В результате многие сибирские востоковеды погибли, другие оказались в Сибири, но были лишены возможности заниматься наукой. Редким исключением стал случай отправки в Томск из Владивостока уже отсидевшего несколько лет А. В. Маракуева. Этот советский синолог в 1940-х гг. не только преподавал в педагогическом институте и университете различные курсы по географии, но также активно занимался исследованиями в области китаеведения. В июне 1946 г. он представил работу «Фрагмент китайского бронзового зеркала в археологическом музее Томского университета», где на примере этой находки поднял ряд важных вопросов истории средневекового Китая. Говоря о последующих китаеведческих трудах этого синолога в Сибири, в первую очередь следует отметить перевод на русский язык фундаментального даосского сочинения «Хуан-ди Инь фу цзин» (黄帝陰符經 «Книга о единении сокрытого, написанная Хуан-ди»).
После начала Великой Отечественной войны, в августе 1941 г., планировалась эвакуация в Томск востоковедов из Ленинграда. Но затем академиков вывезли самолетом на один из курортов Казахстана. Почти всех советских ученых из Европейской России эвакуировали в Среднюю Азию и Казахстан, но не в Сибирь. В качестве редкого исключения можно назвать научного сотрудника ИВ АН В. М. Аникеева, оказавшегося в Чите. Некоторые из призванных в Красную Армию китаеведов были направлены на службу в Забайкалье. В качестве примера можно привести военную судьбу С. Г. Кара-Мурзы. В июле 1941 г. вместе с другими сотрудниками Московского университета он вступил в народное ополчение, но как специалист по Китаю был переведен в Забайкальский военный округ. В 1944 г. был снят с германского фронта и направлен в распоряжение командования советских войск на Дальнем Востоке известный синолог В. С. Колоколов. Подготовка к войне с Японией привела к отправке в район военных действий нескольких известных специалистов по Китаю.
Таким образом, в первые десятилетия советского периода истории на территории Сибири развивались китаеведческая наука и образование. Был создан новый центр университетского и практического китаеведения в Иркутске, однако к середине 1920-х гг. он лишился организационной основы. В дальнейшем в сибирских городах присутствовали элементы научного китаеведения, работали известные синологи, но в Сибири так и не появилось системной синологии.
Список литературы Сибирь и китаеведение в 1917-1945 годах
- Баньковская М. В. Алексеев и Китай: книга об отце. М.: Вост. лит., 2010. 485 с.
- ВКП(б), Коминтерн и национально-революционное движение в Китае: Документы: 1920- 1925 / Под ред. М. Л. Титаренко, Го Хэнъюя. М.: Буклет, 1994. Т. 1. 769 с.
- Ларичев В. Е. Кафаровский проект: источники и документы первой историко-археологической и этнографической экспедиции Русского Императорского географического общества в Маньчжурию, Приамурский и Южно-Уссурийский края (подготовка публикации «потерянных» дневников архимандрита Палладия Кафарова, руководителя экспедиции 1870-1871 годов // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 10: Востоковедение. С. 77-85.
- Миронов Н. Д. Востоковедение в Иркутском университете // Дело (г. Иркутск). 1918. 22 авг.
- Никифоров В. Н. Советские историки о проблемах Китая. М.: ГРВЛ, 1970. 416 с.
- Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. / Сост., предисл. и примеч. Н. В. Куликаускене. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1994. 560 с.
- Серов В. М. К. А. Харнский - историк стран Дальнего Востока // Изв. Вост. ин-та (г. Владивосток). 1999. № 5. С. 51-62.
- Сибирский календарь на 1945 год. Иркутск: Изд. ИГУ, 1924. 138 с.
- Соловьев А. В. Тревожные будни забайкальской контрразведки: Говорят архивы спецслужб Читинской области. М.: Русь, 2002. 544 с.
- Сперанский Б. Д. Китайская республика. Очерк государственного устройства и управления. Иркутск: Книгоизд-во КСИГУ, 1925.
- Черемных Г. Народное просвещение в Сибири // Жизнь Сибири. 1922. № 3. С. 67-87.