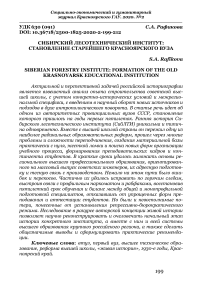Сибирский лесотехнический институт: становление старейшего красноярского вуза
Автор: Рафикова С.А.
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2 (16), 2020 года.
Бесплатный доступ
Актуальной и перспективной задачей российской историографии является взвешенный анализ опыта строительства советской высшей школы, с учетом конкретно-исторических условий и межрегиональной специфики, с введением в научный оборот новых источников и подходов в духе антропологического поворота. В статье речь идет об одном из авторитетных провинциальных вузов СССР, становление которого пришлось на годы первых пятилеток. Ранняя история Сибирского лесотехнического института (СибЛТИ) уникальна и типична одновременно. Вместе с высшей школой страны он пережил одну из наиболее радикальных образовательных реформ, прошел через многие проблемы и сложности переподчинения, создания материальной базы практически с нуля, жесткой ломки и поиска новых форм организации учебного процесса, формирования преподавательских кадров и контингента студентов. В краткие сроки удалось заложить основы регионального высшего профессионального образования, ориентированного на массовый выпуск советских инженеров, их адресную подготовку и тесную связь с производством. Немало на этом пути было ошибок и перекосов. Частично их удалось исправить по горячим следам, выстроив связи с профильным наркоматом и рабфаками, восстановив пятилетний срок обучения и баланс между общей и монопрофильной подготовкой специалистов, отказавшись от упрощенных форм преподавания и аттестации студентов. Но были и невосполнимые потери, понесенные от установления репрессивно-бюрократического режима. Исследование в ракурсе авторской концепции живой истории позволяет научно реконструировать и очеловечить начальный этап истории конкретного института, а вместе с ним и всей системы высшего образования крупного российского региона, а также сделать общезначимые выводы и сформулировать практические рекомендации.
Втуз, первый вуз, высшее техническое образование, реформа высшей школы, "живая история", 1930-е годы, красноярский край
Короткий адрес: https://sciup.org/140249967
IDR: 140249967 | УДК: 630 | DOI: 10.36718/2500-1825-2020-2-199-212
Текст научной статьи Сибирский лесотехнический институт: становление старейшего красноярского вуза
90-летию со времени основания старейшего красноярского вуза посвящается
Сибирский лесотехнический институт (СибЛТИ; 1930–1958); Сибирский технологический институт (СТИ; 1958–1994); Красноярская государственная технологическая академия (КГТА; 1994–1997); Сибирский государственный технологический университет (СибГТУ; 1997– 2016), награжденный в 1980 г. орденом Трудового Красного Знамени – это первое высшее учебное заведение Красноярского края и до недавнего времени единственный за Уралом вуз химико-лесного профиля. За годы своей деятельности он подготовил почти 90 тысяч специалистов, а в 2016 г. официально прекратил свое существование, будучи «реорганизован путем присоединения» к СибГАУ и став частью опорного университета Красноярского края, ныне – Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.
В судьбе первого красноярского вуза отразилась жизнь большой страны. Его становление, а значит и закладка фундамента всей высшей школы крупного российского региона, пришлись на 1930-е годы, совпав по времени с мощным модернизационным рывком страны, кардинальным реформированием всей вузовской системы и пиком политических репрессий.
В настоящее время, в условиях далеко неоднозначных реформ, проводимых в сфере образования, осмысление и переосмысление предшествующего советского опыта строительства и реформирования высшей школы, очищение этого опыта как от тотального пафосного восхваления, так и от не менее политизированного очернительства, учет специфики отечественных и региональных условий, проблем, традиций, ментальностей представляют несомненный научный и практический интерес.
Довольно полный обзор литературы по истории высшей школы СССР и России имеется в специальных монографических и диссертационных исследованиях по тематике, что избавляет от необходимости подробного историографического анализа в рамках небольшой статьи. Но основные моменты следует обозначить: общее количество работ по истории вузовского образования огромно; они несопоставимы по профессиональному уровню и степени идеологизированности; преимущественно обращены к столичным университетам; порою диаметрально противоположны в общих оценках.
Авторами не утративших своей фактологической и научной ценности советских публикаций являются А.С. Бутягин, Ю.А. Салтыков, В.П. Елютин, С.И. Зиновьев, А.Я. Синецкий, Е.В. Чуткерашвили и другие [1– 5]. Позитивным моментом нынешней историографической ситуации можно считать отход исследователей от традиционной идеологической заданности и формально-статистического подхода. Думается, не случайно это движение началось с местного и регионального охвата, что нашло отражение в большом количестве изданных научных работ и диссертаций (Белецкая М.А., Кирсанова Н.А., Коваленко М.В., Корнилова И.М. и др.). Особо отметим исследования Е.И. Демидовой по вузам Поволжья, В.М. Кононенко по югу России, Н.В. Хисамутдиновой по Дальневосточному региону, в которых дается комплексный анализ становления и развития системы высшего профессионального образования в интересующий нас период [6–8].
К сожалению, становление высшей школы Красноярского края еще не нашло своего исследователя, а по первому красноярскому вузу име- ются в основном популярно-презентационные и посвященные истории отдельных факультетов публикации, а лучшим изданием до сих пор остается книжка, изданная 40 лет назад [9].
Между тем даже история одного вуза, вписанная в общеисторический и региональный контекст, с выявлением общих тенденций и местной специфики реформаторских процессов в высшей школе, с использованием биографического, микро- и устно-исторического и прочего инструментария, значительно антропологизирует исследование. Фокусировка взгляда на микропроцессах позволяет, приглядевшись к малому, лучше понять большое. Привлечение низовых пластов источников (приказов и отчетов по вузу, личных дел, писем, воспоминаний студентов и преподавателей, судебно-следственных дел органов госбезопасности, институтской многотиражки, материалов вузовского музея и других) помогает, очеловечив изучаемый материал, увидеть изучаемый объект не только сверху, но и как бы изнутри, с позиций авторской концепции живой истории [10].
Немного предыстории. Красноярск получил статус губернской столицы в 1822 г., и вопрос об открытии здесь высшего учебного заведения активно обсуждался еще до революции. К весне 1914 г. наметилось положительное его решение, но начавшаяся Первая мировая, а затем и Гражданская война надолго это решение отсрочили, и только спустя полтора десятка лет первый институт будет открыт, став ровесником первых советских пятилеток.
Форсированный модернизационный рывок 1930-х годов, сверхвысокие темпы создания отечественной индустрии, строительство тысяч крупных промышленных объектов остро поставили перед руководством СССР проблему обеспеченности инженерными кадрами, способными грамотно организовать производство, успешно освоить новую технику и оборудование. В этом контексте понятен мотив кардинальной реформы всей системы профессиональной высшей школы.
Поворотным пунктом в ее перестройке стал рубеж 1929–1930 гг. На ноябрьском пленуме (1929 г.) подробно обсуждался вопрос о подготовке технических кадров для советской индустриализации и был взят курс на максимальный выпуск инженеров по приоритетным направлениям, под конкретные потребности народного хозяйства регионов.
Этот курс был закреплен в постановлениях ЦК ВКП(б) от 15 февраля 1930 г. и ЦИК СССР и СНК СССР от 23 июля 1930 г. В частности, в целях «решительного сближения теоретического обучения и производственной практики» предписывалось реорганизовать многофакультет-ные вузы в отраслевые, с закреплением последних в ведении соответствующих наркоматов и открытием при каждом вузе рабфака, что определило дальнейшую судьбу высшей технической школы и как минимум значительно ускорило появление СибЛТИ. Приказом от 12.06.1930. по Омскому институту сельского хозяйства и лесоводства он был разделен на четыре части, его «лесная» составляющая, став отдельным институтом, оказывалась в подчинении Наркомлеса и передислоцировалась на берега Енисея. Так начиналась история первого красноярского вуза, или втуза, как он тогда обозначался.
Красноярск на тот момент был небольшим и малоблагоустроенным городом. В нем проживало всего около 100 тыс. человек, не было ни общественного транспорта, ни радио, ни мощеных дорог. Самыми масштабными постройками были храмы, а небольшой островок каменных домов тонул в массиве малоэтажной деревянной застройки. Безусловно, появление первого вуза было для города событием огромной важности. На новой родине институту выделили одно из лучших каменных зданий в самом центре города, построенное в конце XIX века для мужской гимназии (ныне угол улиц Ленина и Вейнбаума).
Первым директором института был назначен Николай Федорович Носов (1895–1937). Его биография во многом типична для человека переломной революционной эпохи. Родился на Тамбовщине, окончил Моршанское начальное училище (1912) и лесную школу (1915), на чем образование и завершилось. По мобилизации попал в царскую армию, в феврале 1917 г. перешел на сторону революции, активно участвовал в Гражданской войне, затем занимал высокие посты в управленческом губернском аппарате и даже был заместителем Наркомфина Казахской республики. В 1930 г. он получил назначение на должность председателя Омского окрисполкома, однако почти сразу был назначен директором СибЛТИ. Впоследствии, недолго проработав председателем Красноярского горсовета (1933–1935), Н.Ф. Носов будет занимать в Москве должность заведующего отделом кадров Президиума ВЦИК, но 12 октября 1937 г. его арестуют и через две недели расстреляют, а еще через тридцать лет реабилитируют. Но пока что, будучи поставленным во главе института, в 1930 г. он приезжает в Красноярск и со всей мощью пассионария принимается за создание вуза.
С омскими преподавателями и студентами были подписаны соглашения о переезде, который состоялся в сентябре 1930 года. Так, впервые в среде красноярских горожан появились студенты и профессура. Согласно списку, приложенному к Приказу № 28 от 31.08.1930 г., из Омска в Красноярск направлялся преподавательский десант из 30 человек, включая директора Носова, который по совместительству станет доцентом по политэкономии. Девять человек переводились в новый институт в статусе профессоров.
Однако даже такого звездного десанта было явно недостаточно для налаживания работы вуза. И тогда город дал институту не только одно из лучших своих зданий, но и ценные кадры. Фронтальное изучение приказов позволило установить более сорока имен вновь принятых только за первые месяцы существования СибЛТИ преподавателей. Среди них преобладали сотрудники красноярских техникумов и ведущие инженеры-производственники. Таким образом, к концу 1930 г. общая численность преподавателей составляла около 70 человек, многие из них работали по совместительству или на условиях почасовой оплаты труда.
Первоначально в институте было создано 4 факультета во главе с заведующими: лесоэксплуатационный / лесохозяйственный (проф. М.Д. Шеф); лесомеханический (проф. Л.И. Аронтрихер); лесохимический (проф. Н.К. Клячин); лесоинженерный (доц. П.В. Поляков). В числе первых появились кафедры физики, химии, высшей математики, технических дисциплин, лесоведения, лесоводства, лесоэксплуатации, таксации и лесоустройства, водного транспорта леса, механической обработки дерева, канифольно-скипидарного производства, мелиорирования рек и гидротехнических сооружений, общественно-экономических дисциплин и др.
На вопрос о том, сколько было первых студентов, доказательно ответить сложно. Личные дела первых студентов списаны за давностью лет, а единственный поименный список, сохранившийся в приказах за 1930 г., содержит 248 фамилий студентов очной формы обучения, распределенных по курсам и специальностям. Эта численность представляется вполне реальной в сопоставлении с 227 выпускниками дневного отделения за первые пять лет.
Официально датой начала занятий в институте считается 1 октября 1930 г., но на самом деле в обстановке переезда и обустройства учебный процесс налаживался долго и сложно. Так, 16 ноября Носов пишет газетную статью под названием «Мы бьем тревогу!», текст которой сохранился в его личном деле: «Если с нечеловеческими усилиями в основном удалось укомплектовать кафедры и дисциплины научными работниками, то этого нельзя сказать в отношении оборудования кабинетов, лабораторий и учебных помещений… Институт до сих пор не имеет необходимого минимума: столов, табурет, досок для аудиторий, и, наконец, институт обречен на замерзание… Нет дров и институт должен в холодных аудиториях проводить занятия… Не менее важным является окончание ремонта учебного корпуса. До сих пор мы не имеем возможности за неимением помещений разместить лаборатории химии, физики, химической технологии дерева, а это, по сути дела, означает ни что иное, как срыв учебного года. Мы обращаемся к рабочей общественности, неужели она, способная завоевать Красный Октябрь, вести непреклонную борьбу против контрреволюции Колчака и т.п., оказалась бессильна выделить необходимое количество рабочих для окончания нужного ремонта?.. Пишущий эти строки все испробовал, стучал, если можно сказать «кричал», но его голос оставался гласом вопиющего в пустыне бездушия и бюрократизма…» Этот текст интересен и как яркий образец тогдашней риторики, и как выразительный рассказ о повсе- дневных нуждах и тяготах становления вуза, и как яркая личностная деталь первого директора.
Несмотря на сложные условия, ему все же удалось заложить материальный и кадровый фундамент СибЛТИ. Под действенным руководством Николая Федоровича формировался первый вузовский коллектив, разрабатывались правила внутреннего распорядка, проводились многочисленные структурные перекройки, решались повседневные вопросы набора, размещения и обучения студентов, создания лабораторий и мест практики, поиска дров для отопления учебных и жилых помещений и многое другое. СибЛТИ стал головным учебным заведением для сети рабфаков Восточной Сибири. Он имел собственные учебнопроизводственные мастерские, свою курсовую базу, учебно-опытный леспромхоз, общежития, столовую, клуб, спортзал, стадион, редакционно-издательский комитет, газету. В 1933 г. на центральном проспекте (ныне Мира, 82) было заложено здание нового учебного корпуса, специально спроектированное под высшее учебное заведение. Для обеспечения стройки материалами город временно передал вузу кирпичный завод. Думается, и здесь не обошлось без участия Носова, который в то время работал уже председателем Красноярского горсовета.
В 1934 г. его преемником в должности директора института менее чем на год становится выпускник факультета механических станков деревообработки Московского лесотехнического института (МЛТИ) Иван Васильевич Бочкарев. При нем вуз лишился слесарно-механических мастерских и двух факультетов. Официально принятие данных решений аргументировалось недостаточностью лабораторной и производственной базы.
Третьим по счету директором института стал Арон Моисеевич Бут-ковский (1899–1938), приступивший к руководству вузом в декабре 1934 года. К этому времени за его плечами были не только годы революционной и подпольной деятельности, но и высшее образование, большой практический опыт работы по специальности на руководящих должностях в Наркомторге СССР, Лесторге и Госторге РСФСР, а также в крупных всесоюзных объединениях «Экспортлес», «Союзлес», «Леспром». С 1930 г. он заведовал созданной им кафедрой по лесному экспорту МЛТИ, одновременно руководил лесоэкспортным факультетом, а в 1933 г. стал заместителем директора по учебной части и получил ученое звание доцента. Для только что рожденного провинциального вуза назначение директором профессионала такого уровня стало большой удачей. Однако жизнь А.М. Бутковского прервется на взлете: в 1937 г. он будет арестован, а в 1938 г. расстрелян как «враг народа», с посмертной реабилитацией в 1957 г.
Несмотря на непродолжительный срок руководства, он сыграл огромную роль в становлении СибЛТИ как вуза высокого разряда. Лишь к 1934 году Наркомлесом и Комитетом по высшему техническому обра- зованию были утверждены учебные планы, программы и номенклатура специальностей по институту, но эти планы еще предстояло внедрить в учебный процесс, уделив особое внимание общенаучным и общетехническим дисциплинам.
В вузовском музее имеются редкие экспонаты – два экземпляра сборника трудов СибЛТИ, изданных в 1936 г. В одном из них первые страницы вырезаны бритвой, а во втором книга начитается статьей директора Бутковского «Пять лет Сибирскому лесотехническому институту». В ней, в частности, говорится: «Инженеры, окончившие Институт в 1931, 1932 и 1933 годах… не имели достаточно общетехнического кругозора и необходимой эрудиции, без чего нельзя быть подлинными организаторами наших крупных социалистических лесных предприятий. Ограниченный в своем научном и техническом кругозоре инженер, выпускавшийся по старой номенклатуре, с трехгодичным сроком обучения, не мог охватить в сложных социалистических лесных предприятиях всего разнообразия технологических процессов… Новая номенклатура специальностей дает возможность готовить специалистов для социалистической лесной промышленности с широкой эрудицией…» [11].
Одновременно с укреплением подготовки студентов по общетехническим и общенаучным дисциплинам большое внимание уделялось развитию собственной производственной базы для подготовки студентов. Мастерские СибЛТИ занимали почти 4 тыс. кв. м, на которых размещались литейный, кузнечный, механический, слесарно-сборочный, моторный, электромоторный и модельный цеха. Они обслуживали не только нужды вуза, но работали также на город и край, изготавливая, например, режущий инструмент и запасные части к молотилкам. Институт имел несколько лабораторий, в т.ч. лабораторию деревообрабатывающего производства, которая была признана лучшей во всей системе вузов Наркомлеса СССР. В 1930 г. в распоряжении института из транспорта было всего две лошади, теперь же появились 2 грузовые машины, 2 тягача, 2 катера.
В 1935/36 учебный год вуз вступил с 59 преподавателями и 702 студентами; действовало 22 кафедры, 17 кабинетов, 8 лабораторий. Но проблема преподавательских кадров по-прежнему стояла остро, и руководство института всемерно пыталось ее решать. Мощное пополнение пришло из Ленинграда, откуда были откомандированы профессора А.Н. Ретанов и А.Е. Золотарев, доценты Б.С. Родионов, П.И. Гоневич, Н.В. Зотов и другие. К преподаванию были привлечены известные красноярцы: один из лучших сибирских архитекторов В.А. Соколовский, сибирский самородок профессор В.П. Косованов, самобытный художник и талантливый педагог Д.И. Каратанов и другие.
Можно сказать, что научная работа в институте началась с 1935 г., и в этом также большая заслуга директора Бутковского, сумевшего привлечь как средства госбюджета, так и доходы от хоздоговорной деятель- ности. Вуз включился в масштабные исследовательские проекты по договорам с крупными предприятиями «Краслес», «Красдрев», «Севпо-лярлес», «Востоксиблес» и др.
Многое было сделано для обустройства преподавателей и студентов: появилась своя портновская и сапожная мастерские, парикмахерская; готовилось к сдаче студенческое общежитие (Маркса, 124). На плечи Бутковского легло и основное бремя проблем возведения главного корпуса, ставшего первым специально спроектированным и построенным под высшее учебное заведение зданием, к тому же – небывало масштабным для краевой столицы. Благодаря «стахановским темпам» строительства, осуществлявшегося хозспособом (то есть в основном силами студентов), частичная эксплуатация здания началась уже в 1935 г., а в 1938 г. корпус вступит в строй, что позволит институту из второго разряда перейти в первый.
Казалось бы, жизнь налаживалась, но в стране грянул «большой террор», не обошедший стороной и СибЛТИ. Благодаря доступу к судебно-следственным делам органов ФСБ удалось установить: по неполным сведениям, только в 1937–1938 гг. было расстреляно 37 человек, заклейменных как «враги народа». Среди них: директор Бутковский, профессора Терлецкий и Косованов, заведующий кафедрой иностранных языков Сисин и преподаватель этой кафедры Евреинова-Аничкова, преподаватель черчения художник Рахлецкий, военрук Мацкевич, председатель профкома Цапаев, секретарь комсомольской организации Кулаков-ский и другие, а также 11 студентов. Профессор Клячин умер во время следствия. Еще несколько десятков работников и студентов были приговорены к различным лагерным срокам по печально известной 58-й статье. Впоследствии все они будут реабилитированы, но в основном – посмертно. Вуз терял лучшие кадры.
Выбитый кадровый потенциал частично удалось компенсировать за счет приезжих специалистов. Из Ленинграда в 1937 г. прибыл Василий Евдокимович Печенкин, назначенный директором СибЛТИ. Яркий представитель рабоче-крестьянской интеллигенции, он имел пролетарскую и революционную закалку, а после Гражданской войны окончил рабфак, Ленинградскую лесотехническую академию им. С.М. Кирова и аспирантуру при ней, стал доцентом. В.Е. Печенкин возглавлял СибЛТИ и кафедру механизации лесоразработок до 1944 г. В Красноярске он получит ученую степень кандидата технических наук без защиты диссертации и ученое звание профессора. Его запомнили как человека активной жизненной позиции, неподражаемого лектора, прямо на занятии под гром студенческих аплодисментов проводившего показательную распиловку. Он по праву считается одним из основателей высшего лесотехнического образования в нашей стране, автором первого советского учебника «Механизация лесоразработок» для лесотехнических вузов. В годы войны Печенкин был арбитром и уполномоченным ГКО по Крас- ноярскому краю, впоследствии работал в Уральском и Поволжском (Марийский) лесотехнических институтах, дожив до преклонных лет и признания своих заслуг.
Также в 1937 г. из северной столицы в СибЛТИ были откомандированы вставшие во главе кафедр: В.А. Поварницын, Г.Я. Трайтельман, Н.П. Анучин (впоследствии академик ВАСХНИЛ). Росли и местные кадры из числа первых преподавателей: кандидатами наук стали Д.М. Левин (1939), С.С. Прозоров (1939), М.М. Губин (1940). Но нивелировать кадровые утраты от репрессий не удалось.
История становления первого красноярского вуза уникальна и типична одновременно. Он возник на волне создания отраслевых институтов, призванных готовить инженерные кадры высокой квалификации для нужд форсированной индустриализации. Соответственно темпам развития промышленности ставилась задача быстрой, массовой и адресной подготовки специалистов, с учетом региональных потребностей. Вместе с высшей технической школой страны СибЛТИ пережил одну из наиболее кардинальных образовательных реформ. На этом пути было немало проблем и противоречивых результатов.
Проблемы начинались с элементарного строительства материальной базы для учебы и производственных практик, и на примере конкретного института очевидно, как непросто они решались. Переданное ему здание требовало ремонта, не имело достаточных для аудиторных и лабораторных занятий площадей, практически не было меблировано, его нечем было отапливать. Из-за недостатка лабораторий в 1934 г. даже пришлось прекратить подготовку лесохимиков.
Для периода становления новой высшей школы были характерны частые структурные перестройки. Целые факультеты появлялись и расформировывались, преобразовывались в отделения и обратно; кафедры объединялись, разделялись, прикреплялись к разным факультетам и отделениям; студенты переводились на другие специальности, причем не всегда в рамках одного вуза, но и с перемещением в другие города, в свою очередь, в СибЛТИ переводились студенты из некрасноярских вузов.
Проблемы обустройства и структурных перекроек усугублялись болезненной ломкой прежней образовательной системы и поиском ее новых форм. В начале тридцатых годов занятия велись по нестабильным учебным планам и программам, с сокращенным до трех лет сроком обучения. В вузах страны, в том числе и в СибЛТИ, был отменен лекционный метод преподавания как пассивная и оторванная от практики форма обучения, индивидуальная работа со студентами клеймилась как метод буржуазной школы, а полноценные по объему часов курсы – как «правооппортунистические вылазки». Альтернативой стал бригаднолабораторный метод подготовки студентов, что существенно снизило уровень подготовки инженеров. Наблюдался также явный перекос учеб- ного процесса в сторону производственного, зачастую неквалифицированного труда.
Но вскоре «левацкие перегибы» в организации учебного процесса начали исправлять. В 1932 г. восстанавливается система сессионных оценок и контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью студентов; в 1933 г. вернулась лекционная форма преподавания, и срок обучения вновь увеличился до пяти лет; во второй половине десятилетия уже проводились выпускные государственные экзамены и защиты дипломов в Государственной квалификационной комиссии.
Резкое увеличение числа вузов в стране обостряло кадровую проблему, а поскольку СибЛТИ, как и многие провинциальные вузы той поры, стал первенцем в регионе, то, по выражению первого директора, профессорско-преподавательский кадровый потенциал приходилось создавать «с нечеловеческими усилиями». В нашем случае его костяк составили переведенные из Омска преподаватели, дополнительно были привлечены местные преподаватели техникумов и производственники, командированные из столиц специалисты. Кадровая политика властей была неоднозначной. С одной стороны, государство возродило ученые степени и звания, установило высокие должностные оклады преподавателям высшей школы, с другой же стороны, поставило их в жесткую зависимость от бюрократической системы управления высшими учебными заведениями, запретив совместительство, установив тотальный партийно-идеологический контроль над образовательным процессом. От сокрушительного удара репрессий СибЛТИ не смог оправиться до конца десятилетия. Так, если в 1930 г. из 30 прибывших из Омска в Красноярск преподавателей было 9 профессоров, то через десятилетие из 105 преподавателей было всего 2 профессора, доктора наук и 7 кандидатов наук.
Сходные процессы происходили и при формировании студенческого контингента. Прежде всего, достаточно противоречивой в своей постановке являлась задача массовой ускоренной подготовки специалистов высокой квалификации. Во-первых, в свете вышеперечисленных проблем качественные результаты подготовки инженеров явно страдали. Во-вторых, с большими трудами набранных студентов перекидывали не только с одного факультета на другой, но и переводили в иногородние вузы, а также «вычищали» из-за неподходящего социального происхождения или его сокрытия, судили за «контрреволюционную деятельность», с вынесением суровых приговоров. Это дестабилизировало динамику подготовки специалистов. Например, если в 1931 г. из СибЛ-ТИ было выпущено 70 инженеров (за счет еще омского набора), то в 1933 г. – всего 16; в 1934 г. первый выпуск за счет красноярского набора составил 63 чел., а в следующем году – всего 20 и т.п.
Тем не менее, несмотря на все сложности и трагические коллизии, к десятилетнему юбилею в институте обучалось 960 студентов и 8 аспирантов. На трех факультетах готовились инженеры для лесохозяйствен- ных, лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств. Вуз имел 28 кафедр, 26 лабораторий, 37 учебных кабинетов с общей стоимостью оборудования 10 млн рублей, библиотеку с фондом более 100 тыс. книг, свой двухрамный лесозавод, лесокультурное хозяйство с плодовым садом, а также вновь возведенный главный учебный корпус площадью 14,5 тыс. м2 и пр. В общей сложности за первое десятилетие удалось подготовить 768 инженеров.
С учетом всех проблем и ошибок, свойственных периоду кардинального реформирования высшей школы в 1930-е годы, следует отметить и ряд положительных моментов:
-
- тесную связь высшей школы с производством, достигаемую за счет ведомственного подчинения вузов, упора на спецпредметы и практические занятия на производствах или в максимально приближенных к ним условиях, на собственных базах практик; систему рабфаков и института красных директоров;
-
- адресность подготовки специалистов, так как ведомственный подход позволял в большей степени учитывать специфику однопрофильных вузов и формировать конкретный заказ на подготовку востребованных кадров. В 1933 г. была введена жесткая система распределения выпускников;
-
- формирование «корпоративных связей», поддерживаемых не только на производственном уровне, но и через социалистические соревнования и обмен практикантами между вузами Наркомлеса, проведение учебно-производственных экскурсий, организация общих выставок дипломных работ, наркомовских и общесоюзных спартакиад втузов и проч.;
-
- создание образовательных сетей, с опорой на головной вуз, курировавший филиалы, подготовительные курсы и рабфаки региона. Фактически в своей отраслевой принадлежности «зоной ответственности» СибЛТИ были профильные учебные заведения всего Зауралья;
-
- достижение высокой мотивации студентов на получение образования и высокую успеваемость с помощью эффективной системы материального и морального поощрения. Лучшие студенты получали более высокую стипендию и существенные скидки на обслуживание в институтских ателье и мастерских, обеспечивались в первую очередь местом в общежитии, награждались грамотами, благодарностями, ценными подарками и даже экскурсионными поездками в Москву, Ленинград, Архангельск. Показательно, что к десятилетнему юбилею вуза каждый десятый студент был отличником;
-
- оперативное реагирование на многие промахи, обнаруженные с началом проведения реформ. Наступив на грабли трехгодичной ускоренной штамповки «узких специалистов» из контингента, зачастую не имевшего даже базовых школьных знаний, на союзном и отраслевом уровне была проделана работа над ошибками, позволившая исправить
наиболее явные перегибы и найти некий баланс между курсом на форсированный выпуск инженерных кадров и уровнем их подготовки.
К сожалению, были и ошибки, исправить которые было уже невозможно. В первую очередь речь идет о репрессивной политике, лишившей жизней и свободы многих профессиональных представителей профессорско-преподавательского сообщества, создававшей атмосферу подозрительности и уничижения авторитета вузовского преподавателя, подрывавшей целые направления подготовки необходимых для народного хозяйства страны специалистов.
Критический анализ опыта становления новой высшей профессиональной школы в тридцатые годы прошлого века способен дать ценные рекомендации и нынешним реформаторам образования. Полноценные надежные базовые знания, сочетающие высокий уровень общей и специальной подготовки; креативность мышления; подкрепление теории реальной практикой; адресная подготовка востребованных специалистов, ориентированных на производственно-созидательную деятельность; освобождение вузов от спрута формалистики и бюрократизма; уважение к личности преподавателя и поддержка авторских научных школ; обратная связь со студенчеством на всех уровнях – важные слагаемые успеха развития высшей профессиональной школы России.
Список литературы Сибирский лесотехнический институт: становление старейшего красноярского вуза
- Бутягин А. С., Салтыков Ю.А. Университетское образование в СССР. М.: Высшая школа, 1957. 296 с
- Высшая школа СССР за 50 лет (1917-1967 гг.) / под ред. В.П. Елютина. М.: Высшая школа, 1967. 300 с.
- Зиновьев С.И. Учебный процесс в советской высшей школе. М.: Высшая школа, 1968. 357 с.
- Синецкий А.Я. Профессорско-преподавательские кадры высшей школы. М.: Советская наука, 1950. 236
- Чуткерашвили Е.В. Развитие высшего образования в СССР. М.: Высшая школа, 1961. 240 с.
- Кононенко В.М. Высшая школа Юга России (20-90-е годы XX века). Ставрополь: ООО "Базис", 2005. 228 с
- Хисамутдинова Н.В. Дальневосточная школа инженеров: к истории высшего технического образования (1899-1990). Владивосток: Изд- во ВГУЭС, 2009. 300 с
- Сибирский технологический институт (1930-1980). Красноярск: Кн. изд-во, 1980
- Рафикова С.А. "Живая история" (или, какой же слон на самом деле?) // European Social Science Journal. 2011. № 12. С. 301-309.
- Бутковский А.М. Пять лет Сибирскому лесотехническому институту. // Труды СибЛТИ. Красноярск: Краевое гос. изд-во, 1936. С. 3-10.