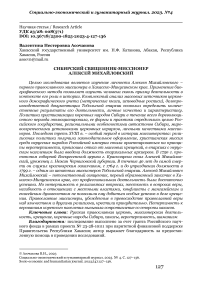Сибирский священник-миссионер Алексей Михайловский
Автор: Асочакова В.Н.
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (30), 2023 года.
Бесплатный доступ
Целью исследования является изучение личности Алексея Михайловского - первого православного миссионера в Хакасско-Минусинском крае. Применение биографического метода позволяет изучить человека сквозь призму деятельности в контексте его роли в истории. Комплексный анализ массовых источников церковного демографического учета (метрические книги, исповедные росписи), делопроизводственной документации Тобольской епархии позволил определить количественные результаты его деятельности, личные качества и характеристику. Политика христианизации коренных народов Сибири в течение всего дореволюционного периода эволюционировала, ее формы и практики определялись целью Российского государства, региональными особенностями автохтонов Сибири, мировоззренческими установками церковных иерархов, личными качествами миссионеров. Последняя треть XVIII в. - особый период в истории миссионерства: религиозная политика получила законодательное оформление, христианская миссия среди нерусских народов Российской империи стала ориентироваться на принципы веротерпимости, произошел отказ от массовых крещений, в епархиях с нерусским населением была введена должность епархиальных архиереев. В 1750 г. протопопом соборной Воскресенской церкви г. Красноярска стал Алексей Михайловский, уроженец г. Нежин Черниговской губернии. В течение 40 лет до самой смерти он служил красноярским заказчиком, с 1764 г. и до упразднения должности в 1799 г. - одним из штатных миссионеров Тобольской епархии. Алексей Михайлович Михайловский - потомственный священник, первый образованный заказчик в Хакасско-Минусинском крае, его профессиональная деятельность была достаточно успешна. Но нетерпимость в религиозных вопросах, жесткость в вопросах веры, негибкость в отношениях с местными властями, конфликты с мангазейским и енисейским духовенством не позволили ему добиться особых успехов в деле крещения. Православные миссионеры, убежденные в превосходстве православной веры над язычеством и другими религиями, крестили принудительно. Нетерпимость к верованиям коренного населения вызывала сопротивление со стороны хакасов.
Русская православная церковь, миссионерская деятельность, крещение, коренные народы сибири, хакасы, веротерпимость, шаманизм
Короткий адрес: https://sciup.org/140302954
IDR: 140302954 | УДК: 23/28: | DOI: 10.36718/2500-1825-2023-4-127-136
Текст научной статьи Сибирский священник-миссионер Алексей Михайловский
Введение. Современная историо графическая ситуация характеризуется смещением научных интересов с изуче-128
ния общностей и социальных групп на характеристики исторических индивидов, их поведение, отношение с окружа- ющими. А жанр исторической биографии позволяет показать историю через историческую личность [1, с. 263]. При этом важно отметить, что при изучении личности интересен не сам по себе человек, а его роль в истории. Интерес к истории Русской православной церкви (далее – РПЦ) не ослабевает с конца 80-х гг. XX в. Особенно в контексте той роли, которую она сыграла в инкорпорации народов Сибири в Российскую империю.
Цель исследования . Изучение деятельности Алексея Михайловича Михайловского – первого православного миссионера в Хакасско-Минусинском крае.
Материалы и методы исследования . На процесс инкорпорации, несомненно, повлияли священники, миссионеры, осуществляющие обращение в православие коренных народов Сибири. Впервые вопрос об образе миссионера был поставлен Н.П. Матхановой, сформулировавшей черты идеального миссионера на основе анализа мемуаров миссионеров [2]. В историографии произошла переоценка личных качеств, вклада миссионеров в развитие Сибири: от резко отрицательных в 40–50-е гг. – до положительных в современных работах [3], особенно в работах представителей ведомственной историографии.
В исследованиях И.И. Юргановой на основе аналитического метода проанализированы закономерности, методы и способы решения задач миссионерства на восточных территориях империи [4]. По мнению И.Н. Каланчиной, просвещение, проводимое православными миссионерами (в лучших своих образцах), является важнейшим фактором формирования социокультурного ландшафта Сибири. Именно благодаря их стараниям, здесь были созданы первые школы, библиотеки и музеи [5].
A.A. Насонов отмечает сопутствующие миссионерской деятельности культурные процессы, отражение и осмысление миссионерами данных о духовной жизни, семейно-родственных отношениях и хозяйственной деятельности корен- ного населения [6]. В изучении личностей миссионеров исследователи сравнивают идеал миссионера, формируемый официальными изданиями РПЦ, с образом, конструируемым самими священнослужителями [7]. Среди функций миссионеров называют освоение новых территорий, помощь в устройстве хозяйственного быта аборигенов, медицинскую помощь, сохранение и развитие местных языков, помощь в создании письменности, русификации аборигенов. Образ идеального миссионера «должен обладать кротостью, смирением, терпением, самоотверженностью, готовностью пострадать ради других и основываться в своей деятельности только на мирном, ненасильственном взаимодействии с местным населением» [8]. Появились работы, воссоздающие образы выдающихся сибирских миссионеров, например, епископ Дионисий (Хитрова) прослужил в Восточной Сибири с 1841 по 1883 г., пройдя путь от молодого миссионера до епископа самостоятельной Якутской епархии (1869). Он вошел в историю сибирской миссии как создатель грамматики и азбуки якутского языка, перевел на якутский язык Новый завет, книги Бытия, Псалтыри, Служебник, Требник, Каноник, Часослов, участвовал в сложных этнокультурных процессах. Его русификаторское понимание содержания миссионерской деятельности радикально отличалось от передовых миссионерских идей того времени [9]. Отмечены трудности миссионеров в их повседневной жизни и деятельности, что затрудняло приток новых лиц [10].
Религиозная политика правительства в XVII веке отличалась веротерпимостью и выразилась в следующих мероприятиях: запрет на использование насильственных методов крещения; запрет на разорение священных мест и кладбищ сибирских аборигенов; отсутствие целенаправленной миссионерской деятельности в отношении язычников. Крестившиеся получали значительные преимущества, заключавшиеся в том, что поверстанным в службу татарам платили в первый год по 30 копеек, а затем постепенно в течение 3 лет доводили до полного оклада. В XVII веке для автохтонов крещение имело целью преодоление ясачного и иноземного статуса. В это время крещение иногда производилось воеводами. В последней трети XVIII в. в миссионерской деятельности РПЦ произошли изменения, связанные с провозглашением принципа веротерпимости. В этот период упразднили контору Новокрещенских дел, а вопросы крещения нерусских народов передали в ведение епархиальных учреждений. В Казанской, Иркутской, Тобольской, Нижегородской, Вятской, Рязанской, Астраханской епархиях вводились должности штатных миссионеров. В 1768 г. особой комиссией, состоящей из членов Синода, были разработаны «Руководство для обращения иноверцев» и присяга для миссионеров. Указом от 20 августа 1768 г. приходским священникам запрещалось без разрешения ездить с целью крещения. Документы были одобрены императрицей, и с начала 1769 года новые правила стали применять в Тобольской епархии [11].
В Тобольской епархии миссионерами были назначены в Ачинском заказе Никита Арамельский, в Красноярском – Алексей Михайловский, которые 20 февраля 1764 г. вступили в должность. Обязанности миссионеров были определены в специальной инструкции, а Красноярская воеводская канцелярия должна была выдавать подводы, проездные, «приличное число служилых людей, толмача, оказывать всякое вспомоществование». Также светские власти должны были платить миссионерам по одной тысяче рублей в год для поощрения принявших христианство, покупки «по семь аршин сукна, три четверти холста на рубашки, пуговицы, чтобы шили христианскую одежду» [12, л. 11; 12об.; 13, 14, 15, 16]. Их деятельность нашла отражение в различных видах источников. В «Именном списке новокрещеного кочевого населения» (1854) встречаются имена тех (правда, всего пять человек. – В.А. ), кого они крестили [13, л. 262, 286].
Комплексный анализ массовых источников церковного демографического учета (метрические книги, исповедные росписи) позволил выявить количественные показатели миссионерской деятельности. В начале 1760-х гг. доля крещеных хакасов в Красноярском заказе составила 39,2 % от общего числа ясачных; в конце XVIII в., когда должности епархиальных миссионеров были упразднены, – 32,7 % [14, л. 1–32; 15, л. 266; 16, л. 373–536; 17, л. 98; 18, л. 126– 144; 19, л. 1–38; 20, л. 36–44; 21, 22, 23, 24]. Снижение доли новокрещеных было связано с увеличением численности автохтонов Хакасско-Минусинского края. После заключения мира с Джунгарией (1757) начался процесс их возвращения на родные земли.
Результаты исследования и их обсуждение . Алексей Михайлович Михайловский родился в г. Нежин Черниговской губернии [25]. Его деятельность пришлась на сложный период становления РПЦ в отдаленном, малонаселенном При-енисейском крае, входившим до 1824 г. в состав огромной Тобольской епархии (путешествие из Восточной Сибири в Тобольск занимало 2 года). Служба Михайловского началась при митрополите Сильвестре (1749–1755), закончилась при епископе Варлааме (1768–1802), первом Московском архиерее на Тобольской кафедре. Он пережил взлет и падение последнего Тобольского митрополита Павла (Конюскевича) Конюшкевича (1758– 1768), выступившего вместе с Арсением Мацеевичем против церковной реформы и секуляризации церковномонастырских земель.
Средним звеном церковноадминистративного управления Тобольской митрополии (с 1768 г. – епархии) были заказы, в том числе Красноярский и Ачинский. Первые красноярские заказчики игумен Хадов, Иван Многогрешный (1745–1750), Филипп и Матвей Вертикулаковы – протоиереи Красноярского Воскресенского собора не оставили документации, других источников, кото- рые позволили бы оценить результаты их деятельности.
Алексей Михайловский, протопоп соборной Воскресенской церкви г. Красноярска, в феврале 1750 г. принял дела в Красноярском заказе [12, л. 1–17]. Прослужил заказчиком 40 лет до самой смерти. В преклонном возрасте, овдовевший, бездетный Михайловский подал прошение об увольнении и разрешении отбыть на родину в Киев. Получив увольнение, он заболел и 1 марта 1790 г. умер [25]. После смерти Михайловского заказчиком стал священник Алексей Алексеевский, первый из местного духовенства.
В этот период церковная политика в Тобольской митрополии осуществлялась в трех направлениях: крещение коренных народов восточной части; учреждение новых приходов, создание системы начальной подготовки кадров духовенства. Вступая в должность заказчика, Михайловский получил наставление митрополита Сильвестра (Стефан Гло-вацкий) «ведать дела обращающихся в Красноярское ведомство неверных народов телеутов, татар и прочих несведущих бога кызылов», просвещать, защищать новокрещеных перед некрещеными и от излишних налогов. Сильвестр до назначения в Тобольск был начальником Новокрещенской конторы и заведовал христианизацией народов Поволжья, поэтому при нем возобновились массовые крещения коренных народов Сибири. В первый же год Михайловский отправился в ясачные земли вверх по Енисею. Из его доклада: «в пост разговляются мясом и молоком», увещевания не помогли, поэтому ясачных излишне освобождать от налогов, в том числе подводной гоньбы. Новокрещеные, в свою очередь, пожаловались митрополиту, что крещение приняли еще 30 лет назад (при Филофее Лещинском), имели льготы, не выполняют православные обряды потому, что «нет вблизи попа, кроме ясачного Матвея», которому они исповедуются и причащаются, а в православии «тверды и непоколебимы» [26, л. 1–6 об.]. Митро- полит рекомендовал Михайловскому «увещевать неверных тамошних кызы-лов принимать святое крещение», сохранять льготы «дабы через это другим к святому крещению придать охоту» [26, л. 1–17].
В 1766 г. Михайловский с негодованием сообщал в консисторию о результатах миссионерской деятельности среди качинцев: «Воспринявшие Святым Крещением с некрещеными татарами еди-нокупное улусами жительство имеют, и никакой отмены против прежней своей замерзелости к содержанию благочестия не имеют, и как прежние свои ядения и пития употребляли, тако и ныне с теми в обществе будучи, всегда с некрещеными татарами оскверняются. В тех улусах у татар, как в юртах, так и около юрт, и вблизи их жительств на дорогах, речках и озерах поставляются по вере их нечестивые шайтаны, которые жертву по своему богомерзкому обычаю приносят и веруют в них, а крещеные малолетние отроки живучи в единых улусах и, видя, что делают их купнородные, тем же и они охотно навыкают идолослужениям. Шаманщики, те есть диавольские служители, которые веруют в беса и ему, отдавши себя вечно, служат, пребывают в обществе с восприявшими святое крещение, и к шаманству своему, как несведущих бога, так и просвятившихся святым крещением лестно привлекают, и тем своим бесовским шаманством величие божье отдаляют от милосердия его…» [27, л. 2–4 об].
Одновременно Святейший Синод докладывал Екатерине Великой (02.10.1767): «проповедуют (миссионеры. – В.А. ) тем людям, которые и не слыхивали, как по-русски говорят». Далее описаны методы привлечения в православие: «Обольстя награждением, напоя пьяных или устрашая разными случаями всех христиан, стараются умножить единственно для их интересу» [28, л. 7]. Кроме привлечения материальными льготами, «священники устрашают отступников от веры христианской штрафами и через то грабят их бесчеловечно.
Ежели кто, требуемого не даст, тогда берут и на их же подводах и коште возют за собой по протчим жилищам в забитых колодах». Формальность крещения бросалась в глаза даже высшим церковным иерархам: «Молодых благословляют медными крестами, а что до христианского знания о том неважно ведать, и в помышлении у них не было…Обобрав и через пять лет то жилище не навестит, а благоразумно дает время, чтобы новый христианин пограбленное им промыслами своими пополнил…». Другой способ «к грабительству сего несмышленого народа…найдут давно умершего или вновь рожденного и некрещеного, привязываются для чего некрещен, и для чего умерший без священника погребен, и приписывают к поруганию веры христианской» [28, л. 7об.– 8].
К докладу прилагалось «всеподданнейшее мнение, каким образом учредить проповедь слова божьего»: заменить митрополита, чтобы он «благоразумно» разрешал жалобы новокрещеных на злоупотребления священников; крещение проводить в тех местах, где поблизости есть церковь; производить в священники из представителей тех народов, которых освящают крещением, для чего завести школы среди нерусских народов; привлекать к службе священников, которые знают языки народов Сибири [28, л. 9– 9 об.]. Оценка Синодом явно тенденциозна, доклад назывался «О жалобах на Тобольского митрополита Павла». Вопрос о его замене был уже предрешен, год спустя митрополит Павел был сослан в Киево-Печерскую лавру, Тобольская митрополия была понижена классом до епархии.
Тобольским миссионерам было рекомендовано изучать языки народов Сибири, привлекать в семинарии мальчиков из семей новокрещеных, учить их русскому языку, чтобы «другие природные российские ученики чрез обращение с ними могли бы заимствовать понятия их языка, и тем скорее достигать к совершенному оного познанию» [29, л. 44, 78]. Позже эту практику стали применять во всех епархиях. В 1789 г. Синод резко ограничил деятельность миссионеров в Казанской и Иркутской епархиях, в Тобольской она проводилась с ограничениями. Причинами стали упорное сопротивление нерусских народов политике христианизации, рост социальной напряженности, очевидная формальность крещения, отход от православия новокрещеных. Духовенство признавало, что крещеные не стали верующими, так как священников в епархии так мало, что они годами не бывают среди новокрещеных, причины слабости миссионерства, по их мнению, вызваны политикой веротерпимости, отсутствием средств и помощи государства [26, л. 1–2].
В результате массовых крещений, проводимых Михайловским, возросло количество новокрещеных, которых приписывали в сельских приходах. Были построены две церкви новокрещеными [30, л. 15–17 об.]. В 1775 г. было завершено строительство Ужурской церкви, при этом большую часть средств на возведение внес кызыльский князец Гаврила Ульчугачев, депутат от ясачных инородцев Сибири в екатерининской Уложенной комиссии [31, л. 145–166]. Подавляющее большинство прихожан составляли ясачные (1781 чел.) [20, л. 37–48 об.; 32, л. 2], кочующие в значительном отдалении от церкви, и поэтому иногда записывающиеся в другие приходы, как они объясняли сами: «ездили на промыслы в дальние расстояния», и им было неудобно в Ужурском и Боготольском приходах [33, л. 40]. Одновременно образовался Ас-кизский Петропавловский приход [27, л. 1–11]. Михайловский об этом событии писал, что «новокрещеных сот до пяти и более душ обоего пола» находятся в отдалении от церквей. Он лично помог найти плотника, утварь и священника. В марте 1771 г. храм был построен в с. Ас-киз и освящен, но еще год в нем не было священника. Селение развивалось очень медленно, клир был одним из самых бедных, поэтому на протяжении всего периода не хватало церковнослужителей, а священники часто менялись. В приходе находилось 15 улусов, в которых проживали представители десяти хакасских родов [27, л. 1–6].
Принципы веротерпимости, включавшие добровольность крещения (в понимании, характерном для XVIII в.), провозглашенные светской властью, не были восприняты большей частью духовенства, типичными представителями которого были и Тобольский митрополит Павел Конюскевич и Красноярский заказчик Алексей Михайловский (их объединяла принадлежность к южнорусской школе). Несмотря на довольно стабильные в течение длительного времени количественные показатели (более трети автохтонов), принятие православия не привело к смене самосознания и этнической идентичности. Постепенно центр тяжести перемещался в приходские общины новокрещеных: Ужурская на севере и Аскизская – на юге ХакасскоМинусинского края. В 11 из 16 приходов проживали крещеные хакасы.
Заключение. П.Н. Буцинский писал: «немногие священники добровольно соглашались оставить родину, друзей, родственников, чтобы отправиться в малоизвестный, далекий край» [34, с. 189]. Алексей Михайлович Михайловский был одним из тех немногих. Это первый образованный заказчик в ХакасскоМинусинском крае и его деятельность, направленная на укрепление позиции церкви в регионе, была достаточно успешна. Но нетерпимость в религиозных вопросах, жесткость в вопросах веры, негибкость в отношениях с местными властями, конфликты с мангазейским и енисейским духовенством не позволили ему добиться особых успехов в деле крещения. Как и подавляющая часть российского духовенства, он был традиционалистом в мышлении и способах действий. Несмотря на то что просветительские принципы миссионерской деятельности были разработаны Иннокентием Неруновичем еще в 1733 г., применяться они стали только в 40–60-е гг. XIX в. и только среди очень незначительной части духовенства. Он писал: «В проповеди Слова Божия вначале использовать, если возможно, язык того народа, к которому оно обращено», открыть училище в Иркутске, куда принимать по желанию «из неверческих народов», освобождать от ясака на 10 лет; выдавать кресты, холст, сукно, хлеб [35].
Православные миссионеры в духе времени интерпретировали проявление терпимости к коренному населению Сибири. Согласно идеалу, священнослужитель в своей деятельности должен руководствоваться любовью, терпением и уважением к аборигенам, их обычаям и традициям. Но миссионеры, убежденные в превосходстве православной веры над язычеством и другими религиями, не стремились убедить в этом местное население и склонить к принятию христианства, а крестили принудительно. Нетерпимость к верованиям коренного населения проявлялась и не только на словах, но и в действиях. Стремление быстро осуществить русификацию, критика образа жизни и традиций, уничтожение элементов местной культуры, настойчивый призыв к смене веры на православие вызывали сопротивление со стороны хакасов.
Список литературы Сибирский священник-миссионер Алексей Михайловский
- Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. М.: Дрофа, 2004. 288 с.
- Матханова Н.П. Сибирская мемуаристика XIX века. Новосибирск, 2010. 551 с.
- Шатилов С.Ф. Миссионерская деятельность епископа Рыбинского, викария Ярославской епархии Василия (Бирюкова) в Западной Сибири // Христианское чтение. 2023. № 1. С. 308-320.
- Юрганова И.И. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в Сибири (XVII - начале ХХ в.): историко-аналитический обзор// История: факты и символы. 2020. № 2 (23). С. 110-120.
- Каланчина И.Н. Деятельность православных миссионеров в Сибири как образец личного служения обществу и государству // Макарьевские чтения: мат-лы XVII Междунар. науч.-практ. конф. (Горно-Алтайск, 23-24 сент. 2022 г.). Горно-Алтайск, 2022. С. 89-93.
- Насонов A.A. Вклад православных миссионеров в изучение этнорелигиозных особенностей коренного населения юга Западной Сибири (вторая треть XIX -начало XX в.) // Общество: философия, история, культура. 2022. № 3. С. 131-135.
- Лысенко НА. Компаративный анализ идеала православного священника-миссионера на территории Российской империи второй половины XIX - начала XX века // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых: сб. мат-лов четвертой Всерос. молодеж. науч. конф. Новосибирск, 2015. С. 87-94.
- Землякова НА. Священник-миссионер в Сибири: идеал и реальность (по материалам религиозной периодической печати второй половины XIX - начала XX в. // Гуманитарные науки в Сибири. 2013. № 3. С. 98-101.
- Карташева Н.В. Проблема сохранения этнического своеобразия автохтонных народов Сибири в трудах православных миссионеров Дионисия (Хитрова) и Вениамина (Благонравова) // Вестник Свято-Филаретовского института. 2021. № 39. С. 123-147.
- Рощина О.С. Природно-географические условия повседневной деятельности сибирских миссионеров второй половины XIX - начала ХХ в. // Природно-географические факторы в повседневной жизни населения России: история и современность: мат-лы Междунар. науч. конф. СПб., 2019. С. 104-109.
- Полное собрание законов Российской империи: в XLV т. СПб., 1830. Т. XVI. № 2116.
- Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске»). Ф. 156. Оп. 1. Д. 52.
- Муниципальное казенное учреждение. Архив города Минусинска (МКУ «Архив г. Минусинска»). Ф. 17. Оп. 1. Д. 73.
- Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 592. Оп. 1. Д. 28.
- ГАКК. Ф. 592. Оп. 1 Д. 63.
- ГАКК. Ф. 592. Оп. 1 Д. 189.
- ГАКК. Ф. 592. Оп. 1 Д. 215.
- ГАКК. Ф. 592. Оп. 1 Д. 136.
- ГАКК. Ф. 592. Оп. 1 Д. 40.
- ГАКК. Ф. 592. Оп. 1 Д. 44.
- ГАКК. Ф. 592. Оп. 1 Д. 131 (I, II).
- ГАКК. Ф. 592. Оп. 1 Д. 85.
- ГАКК. Ф. 592. Оп. 1 Д. 53.
- ГАКК. Ф. 592. Оп. 1 Д. 75.
- О Михайловском // Енисейские епархиальные ведомости. Красноярск, 1887. № 18. С. 2.
- ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 1. 1751. Д. 151.
- ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 1. 1768. Д. 73.
- РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 237.
- ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 1. Д. 121.
- ГАКК. Ф. 592. Оп. 1. Д. 301.
- ГАКК. Ф. 592. Оп. 1. Д. 142 (ч. 1).
- ГАКК. Ф. 592. Оп. 1. Д. 104.
- ГАКК. Ф. 592. Оп. 1. Д. 119.
- Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков: Типография губ. правления, 1889. 345 с.
- Инструкция миссионеру Филевскому // Иркутские епархиальные ведомости. Прибавления. Иркутск, 1865. № 23. С. 349-351.