Сильный слабый рубль
Автор: Миркин Яков
Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii
Рубрика: Ученый совет
Статья в выпуске: 3 (143), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье дан анализ фундаментальных причин ослабления рубля, объяснена его «жесткая посадка» в январе–феврале 2014 года, представлен прогноз дальнейшей динамики курса рубля в зависимости от сценариев, по которым будет проводиться политика Банка России, и сценариев среднесрочной динамики глобальных финансов. Объяснены последствия ослабления курса рубля (экономическая активность, экспорт–импорт, импортозамещение, сфера инвестиций, личные накопления). The article gives an analysis of the fundamental causes of weakening of the Russian ruble, explains his "hard landing" in January–February 2014, provides the forecast of future dynamics of the ruble exchange rate, depending on the scenarios of the policy of the Bank of Russia and medium-term scenarios of global finance developments. Explains the final effects of the weakening ruble (economic growth, tendencies in export-import, import substitution, investments, personal savings).
Российский рубль, девальвация, валютный курс, центральный банк, банк России, плавающий валютный курс, валютный режим, глобальныe финансы, сценарий, инфляция
Короткий адрес: https://sciup.org/142171175
IDR: 142171175
Текст научной статьи Сильный слабый рубль
Созревшее яблоко должно упасть 38–40 руб. за доллар — такой курс сегодня не выглядит фантастичным. Есть вещи, которые должны случиться. Яблоко, когда созреет, должно упасть. Рубль — как его ни удерживай — когда-то должен был покатиться вниз.
Почему? Рубль переоценен. «Прямые инвестиции» и раньше писали об этом (см. №7, 2013). К такому выводу можно прийти в результате простых арифметических действий.
В 2000–2013 годах цены в России выросли в 3,7 раза. Примерно во столько же раз увеличились, в силу инфляции, рублевые издержки на производство. Чтобы российский экспортер извлек из долларовой выручки прибыль, такую же как и в 2000 году (при стабильных мировых ценах), — курс рубля должен упасть в 3,7 раза. Но он не падает! В конце 2000 года за доллар США давали 28,2 руб. В конце 2013 года его официальный курс — 32,7 руб. Разница — всего лишь 16%.
На бизнес нефтяников и газовиков такая динамика курса не оказала значимого влияния. Поскольку мировые цены на нефть за это время выросли в 3,2–3,5 раза. Взлет долларовых цен на сырье «съел» потери от того, что рубль стоял, как твердыня.
А вот мировые цены на вооружение и другую продукцию с высокой степенью обработки не эластичны к рублевой инфляции. Они растут примерно на 1–3% в год. Это значит, что где-то с 2003 года эффект девальвации рубля 1998 года был исчерпан, и высокотехнологичный экспорт стал убыточным для России. Валютная выручка все меньше покрывала растущие, в меру инфляции, рублевые издержки заводов обрабатывающей промышленности, работающих на экспорт (есть еще такие). Их убытки, вызванные деформациями валютного курса, приходилось закрывать разовыми вливаниями из бюджета.
Зато стал очень выгодным импорт в Россию. Он кладет на лопатки любые попытки заместить его товаром, произведенным внутри страны. Предположим, что стоимости двух одинаковых двигателей в России и за рубежом в 2000 году были сопоставимы. В 2010 году рублевая стоимость мотора, произведенного в России, должна быть в 3,5 раза выше показателя 2000 года, а цена его зарубежного аналога — только в 1,2–1,3 раза. Какой же из поставщиков победит?
На языке экономистов все это — симптомы ситуации под названием «разрыв реального и номинального эффективного курсов национальной валюты». В России он уникален по величине — в 10–15 раз больше, чем в Китае или еврозоне. Он убивает экспорт техники, зато
Когда главный покупатель уходит с рынка, цена товара падает.

Но в России пока этого нет. Финансовая система России — по-прежнему мелкая машина. Она крайне неустойчива, зависит полностью от внешних факторов (мировые цены и спрос на российское сырье, ввоз–вывоз капитала). Низка насыщенность экономики деньгами и фи-
«вздувает» любой импорт и не дает заместить его чем-то отечественным. Сильный рубль делает импорт «бус и огненной воды» против сырья сверхприбыльным.
При сильном рубле становится выгодным вывоз капиталов. И действительно, в течение более 20 лет, с коротким перерывом в 2006–2007 годах, мы существуем в условиях чистого вывоза капиталов. За границу уходит все положительное сальдо торгового баланса (иначе говоря, вся плюсовая разница между экспортом и импортом, весь избыток, заработанный вывозом сырья, извлекается из российской экономики).
Но мы упорно стоим за крепкий рубль. Мы считаем, что такая валюта — символ государственности. Тяжелая валюта — наше все, наша фобия с советского времени, даже если это невыгодно и невозможно в условиях высокой инфляции внутри страны. Банк России держал рубль, как мог, как регулятор, как крупнейший продавец и покупатель на валютном рынке, способный прямо влиять на цену товара. Это называлось валютными ин- тервенциями.
Рубль–2013: жесткая посадка
2013 год подвел рубль ближе к краю, где его невозможно удержать от ослабления. Резко замедлилась экономика. Обозначилась тенденция к падению мировых цен на сырье. Много денег экономике раньше давало превышение экспорта над импортом товаров и услуг. Но в 2013 году положительное сальдо текущего счета платежного баланса сократилось в 2,2 раза до $33 млрд.
Эти деньги не остались в экономике, они были отправлены за границу. Чистый вывоз капитала из страны вырос в 1,6 раза до $43 млрд. На пару десятков миллиардов долларов упали валютные резервы страны. Всем нужны были доллары и евро на вывоз. Рубль был выставлен на продажу. В такой ситуации он не может укрепляться, возможно лишь его снижение.
Рубль не готов к свободному плаванию, которое предполагает стабильность денег, финансов, банков.
нансовыми активами — примерно в 1,5–2 раза ниже, чем в развитых странах, более чем в 4 раза ниже, чем у Китая. Индикатор «Денежная масса М2/ВВП» составил в России в конце 2012 года — 40%, в Китае — более 180%, в США — более 60%, в еврозоне – около 100% (IMF IFS).
В апреле–декабре 2013 года Банк России еще боролся против падения курса национальной валюты. Продавал доллары и евро (в объеме до $30 млрд), чтобы купить рубли. Тем самым поддерживал рубль. Когда что-то покупаешь — курс растет, продаешь — наоборот. Когда такой главный покупатель уходит с рынка, цена товара падает. Особенно если все понимают, что цена товара искусственно завышена.
Именно так и произошло. В начале года ЦБР помахал всем ручкой и сделал вид, что гордо удаляется с рынка, пообещав, если что, вернуться. Сами здесь разбирайтесь и находите точку равновесия. Во всяком случае, так все поняли заявления ЦБР (см. справку).
В результате рубль ушел в штопор. Весь российский народ и его банки начали дружно играть против него. По- доспели и нерезиденты, из тех, кто ищет что-то погорячее. Пришел час спекуляции. В конце января валютные торги на Московской бирже были в 2–3 раза выше обычных объемов (30–31 января объем торгов по доллару превысил 440–460 млрд руб., в сравнении с обычным показателем 100–250 млрд; по евро — 45–60 млрд руб., в сравнении с 20–30 млрд). Срочный рынок по валюте ставил рекорды оборотов и открытых позиций. Количество заключенных контрактов по доллару и евро превысило традиционные объемы в обозначенный период в 1,5–2 раза.
Был ли это единственный сценарий свободного плавания рубля? Конечно нет. Отрыв рубля от его реального курса зашел настолько далеко и продолжался так долго, что ослаблять его ЦБ должен был бы очень осторожно, может быть, не за один год, хитро запутывая то, что он делает, как заячьи следы. Ни в коем случае не уходя с рынка, притормаживая на крутом склоне, как это делает опытный водитель. В полной мере участвуя валютными интервенциями в том, чтобы рынок не сорвался в спекуляцию, в массовую атаку всех против рубля.
Банк России с 13 января 2014 года снизил объем целевых валютных интервенций с $60 млн в день до нуля. «Данная корректировка была осуществлена в целях дальнейшего повышения гибкости курсообразования в рамках постепенного перехода к 2015 году к режиму плавающего валютного курса, — отмечает ПРЕСС-СЛУЖБА БАНКА РОССИИ. — Снижение объема целевых интервенций приведет к увеличению чувствительности границ операционно-
го интервала допустимых колебаний стоимости бивалютной корзины к объему совершенных Банком России интервенций, направленных на сглаживание чрезмерной волатильности обменного курса рубля.
Реализованные изменения при прочих равных условиях обеспечат уменьшение прямого присутствия Банка России на внутреннем валютном рынке, что будет способствовать усилению действенности процентной политики».
Этот сценарий пока не реализован. Вместо этого — много слов. Фантастические версии о том, что чужие валюты виноваты. Заверения, что скоро рубль отыграется. Уговоры, что рублевые доходы нужно копить только в рублях, и, ну его, рубль — пусть падает. Тысяча речей как причина того, что народ ускоряет свой бег к обменным пунктам.
Железная рука ЦБ — курс на плаву Многое зависит от Банка России. Чтобы сбить накал страстей, он должен начать осторожничать, вести себя прагматичнее, не делать громких заявлений, что «рубль отпущен», что он «находится в свободном плавании», что достигнут полный успех в рыночном формировании курса рубля против основных валют.

Валютные интервенции Банка России станут похожи на железную руку, удерживающую курс рубля на плаву, то легонько отпуская его, то подталкивая в нужном направлении. Но это — только ожидания. Ведь ЦБ — это люди, и никому неизвестно, начнут ли они упорствовать в своих решениях. Борются, с одной стороны, разум, чувство реальности и, с другой — амбиции, желание сделать «все правильно», «по-рыночному», путем свободной игры сил рынка даже тогда, когда нужно срочное «хирургическое» вмешательство от имени государства, чтобы люди и рынки не пошли вразнос.
Сегодня мы на развилке дорог. Возможны несколько сценариев развития событий.
Первый сценарий. Если победит прагматизм, то Банк России вновь войдет большими шагами на валютный рынок — явно, сделками, или скрыто, договоренностями, —

Что бы ни случилось, рубль уже «дернулся» вниз и вряд ли вернется обратно.
и таким образом всех быстро успокоит. Курс рубля достигнет уровня 35–36 руб. за доллар. А затем начнется длинный путь «два шага вперед, один назад» медленного ослабления рубля, когда никто не знает, выиграет он или проиграет в ближайшие полгода. К концу года можем увидеть значения около 40 руб. за доллар.
Если вдруг вновь возникнет острая нестабильность с рублем, как в январе 2014 года, то последует окрик сверху (ЦБР не совсем независим), социальная напряженность никому не нужна, и все на время успокоится. Но затем продолжится скользящее движение рубля вниз.
Второй сценарий. Может статься, что всех переборет настрой на то, чтобы делать все «по-взрослому», как на Западе: пусть рынок сам находит курс рубля, а Банк России будет вмешиваться, но только тогда, когда уже не будет мочи терпеть. Тогда нас ждет минное поле. Наступит время, когда никто не скажет, кто и на каком уровне остановит прыжки рубля по нисходящей на рынке, который, кажется, сошел с ума.
Закончится это громкими неприятностями. Если телегу пустить с горы и сказать ей: «Встретимся внизу!» — то она точно разобьется.
Третий сценарий. Январь 2014 года нагнал такого страху, что ЦБР будет удерживать рубль на новых, более низких горизонтах, но дальше — ни-ни! Что ж, болезнь будет загнана куда-то внутрь, а проблема слишком сильного рубля никуда не уйдет и будет отодвигаться в 2015–2018 годы. Там она и найдет свое решение — новым падением рубля.
Как «заграница» влияет на будущее рубля
Мы очень зависим от мировой экономики. На ЕС приходится 50% внешнего товарооборота России. Если сбудутся прогнозы об экономическом оживлении ЕС в 2014 году, то вслед за ЕС «разгонятся» страны СНГ, мы вновь выйдем на темпы экономического роста 2,5–3% и попадем в мир победных реляций об ускорении и выходе из тупика. Сократится вывоз капитала, улучшится торговый баланс. Намного спокойнее станет в валютной сфере. Вероятность этого сценария — 80%.
При прочих равных январь 2014 года в рамках этого сценария не повторится. Рубль будет тихо и плавно скользить вниз, как на коньках, временами укрепляясь.
Второй сценарий — очень неблагоприятный (вероятность его реализации — 20%). Финансовый рынок США перегрет, работал печатный станок, вливали много новых денег, чтобы оживить экономику. Сейчас США предстоит выйти из этого режима, отсоединить себя от «аппарата искусственного дыхания». А это значит, что в момент прекращения так называемых количественных смягчений глобальным финансам грозят острые шоки. И эти шоки, финансовые инфекции, то, что экономисты называют «цепной реакций системного риска», — могут прийти в Россию уже в 2014 году. Это означает укрепление доллара, снижение цен на энергоресурсы и металлы.
В этом случае мечтать о плавном снижении курса рубля будет поздно, придется выживать. Много неприятностей, много падений рубля, акций, банков, рост инфляции и процента. Сложное положение в сырьевом секторе реальной экономики. То, что происходило с рублем в январе 2014 года, будет казаться цветочками.
Третий сценарий — на более длинных временных горизонтах. Это прогноз вытеснения России с рынка энергетического сырья в Европе, сланцевая революция, превращение США в экспортера энергоресурсов к 2020 году, рост энергоэффективности в Европе, диверсификация источников энергии в ЕС. Наконец, многолетнее укрепление доллара по отношению к евро, которое будет гнать вниз мировые цены на сырье. Это очень серьезный вызов: то облегчение, которое мы можем получить в 2014 году, будет в дальнейшем, год за годом, все больше перекрываться негативными эффектами.
За этим сценарием стоят большие потрясения в валютной сфере. Все будет зависеть от нашей способности использовать девальвацию рубля, если она состоится, и другие сильные лекарства для ухода от сырьевой модели экономики.
Что бы ни случилось, рубль уже «дернулся» вниз и вряд ли вернется обратно, поэтому пора считать, кто выиграет от этого, а кто будет в безусловном проигрыше.
Ослабление рубля: выигравшие и проигравшие
Медленная и осторожная сдача рублем своих позиций может принести реальные плюсы для российской экономики. Удастся обойтись без инфляционной вспышки. Изменение цен будет происходить в рамках обычной инфляции (возможно ускорение на пару пунктов). К этому мы привыкли. Много лет жили при двузначном росте цен за каждый год.
Ослабление национальной валюты — один из общепринятых приемов подстегнуть экономический рост. Здесь мы ничем не отличаемся от других стран, если, конечно, не будем делать эти вещи топорно, по-мясницки.
Станет значительно выгоднее экспорт. Особенно для продукции с высокой степенью обработки. Оживет бюджет, поскольку очень высокая часть его доходов основана
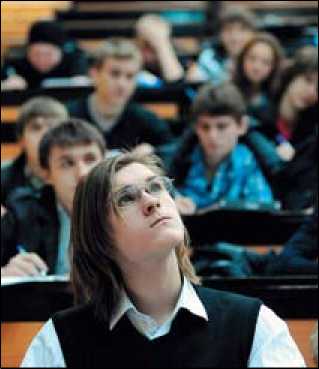
ИТАР-ТАСС
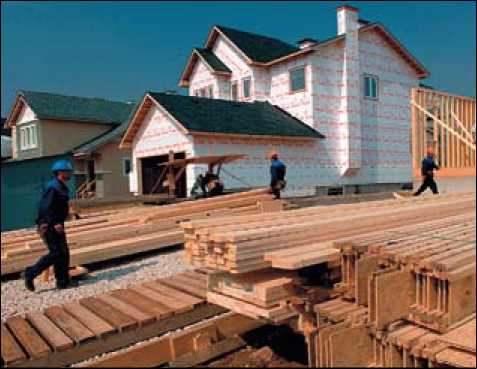
РИА «НОВОСТИ»
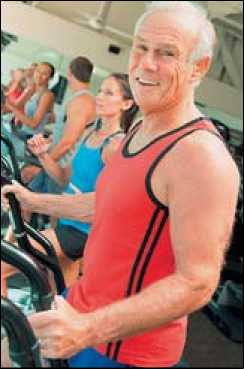
ФОТОБАНК ЛОРИ
Самая лучшая валюта — образование и здо ровье.
Чем больше разных активов — в разной валюте, кирпичах и земле — удастся удержать, тем устойчивее лодка.
на нефтегазовом экспорте и валютной выручке. Номинально в рублях эти доходы станут значительно выше.
Намного легче будет заниматься «импортозамещени-ем». Импортировать может стать дороже, чем производить внутри России. Для иностранцев станет дешевле российская рабочая сила, и это значит, что мы станем чуть-чуть конкурентоспособнее для прямых инвестиций из-за рубежа. Мы очень нуждаемся в этих инвестициях для модернизации.
Кому станет лучше? Тем, кто занимал в рублях под фиксированный процент. Всем тем, кто связан по жизни с экспортом (кроме туристической отрасли). Рублевая выручка и доходность экспорта увеличатся.
Может быть, внутри страны отдых станет дешевле, чем за границей. Но если цены в Сочи опять уйдут куда-то в небо и соотношение «цена–качество» будет снова в пользу Греции, несмотря на девальвацию рубля, то, значит, зря боролись и страдали.
Кому станет хуже? Всем тем, кто импортирует, кто в жизни зависит от импорта. Обязательно станем беднее за границей на отдыхе. Он станет для нас дороже.
Если рубль будет так же резво падать, как в январе, то столкнемся со скачком цен. Все начнется с импорта. Доля импорта в лекарствах — около 70%, в говядине, молоке — 60%, сырах — 50%, свинине — 30%, кожаной обуви — 90%, потребительской технике — от 50 до 100% и т.д. Новые ценники — прежде всего там.
Если цены начнут расти, больше всего потеряют те, у кого доходы плохо адаптируются к инфляции. Бюджетники, малый и средний бизнес. Те, кто занимал в валюте. Все те, кто считает себя бедным или даже среднеобеспеченным. Чтобы как-то покрыть потери, часть зарплат может уйти в теневой оборот.
Выручит, правда, то, что мы привыкли к инфляции в 10–15%. С ней долго жили. Да и сейчас наша личная инфляция не так уж далеко ушла от «двух знаков».


