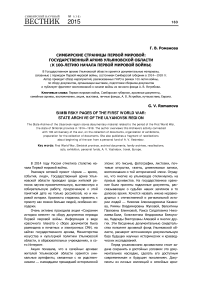Симбирские страницы Первой мировой: Государственный архив Ульяновской области к 100-летию начала Первой мировой войны
Автор: Романова Г.В.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Информация
Статья в выпуске: 1 (19), 2015 года.
Бесплатный доступ
В Государственном архиве Ульяновской области хранятся документальные материалы, связанные с периодом Первой мировой войны, состоянием Симбирской губернии в 1914-1918 гг. Автор приводит обзор мероприятий, реализованных ГАУО в рамках 100-летия войны, по сбору документов, организации выставок, подготовке сборника документов и публикует фрагмент воспоминаний о начале войны из личного фонда А. В. Ястребова.
Первая мировая война, симбирская губерния, архивные документы, семейные архивы, воспоминания, акция, выставка, личные фонды, а. в. ястребов, путешествие, европа
Короткий адрес: https://sciup.org/14114047
IDR: 14114047
Текст научной статьи Симбирские страницы Первой мировой: Государственный архив Ульяновской области к 100-летию начала Первой мировой войны
В 2014 году Россия отметила столетие начала Первой мировой войны.
Реализуя сетевой проект «Архив — время, события, лица», Государственный архив Ульяновской области проводил среди жителей региона научно-просветительскую, выставочную и собирательскую работу, приуроченную к этой памятной дате не только российской, но и мировой истории. Архивисты старались привлечь к проекту как можно больше людей, особенно молодежи.
Очень активно проходила акция «Сохраним историю вместе» по сбору документов периода Первой мировой войны. Информация в виде красочного плаката о сборе документов была размещена в печатных и электронных СМИ, на сайтах государственного архива, Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, в образовательных учреждениях, в сети Интернет.
Акция показала, что в семейных архивах жителей Ульяновской области хранятся уникальные артефакты, связанные с их родственниками — очевидцами прошедшей исторической эпохи: это письма, фотографии, листовки, почтовые открытки, газеты, дневниковые записи, воспоминания о той исторической эпохе. Отрадно, что многие из ульяновцев откликнулись на призыв архивистов. На государственное хранение были приняты подлинные документы, рассказывающие о судьбах наших земляков в то далекое время. Хочется назвать имена неравнодушных к отечественной и региональной истории людей — Николая Александровича Казакова, Риммы Владимировны Жуковой, Валентины Павловны Блинковой, Раиса Сагдатовича Николаева-Балл, Константина Федоровича Белоусова, Надежды Викторовны Алеевой и многих других. Эти бесценные документальные свидетельства пополнят архивный фонд Ульяновской области, расширят источниковую документальную базу будущих научных исторических и краеведческих исследований.
Перед ульяновскими архивистами стоит задача сохранить в достойных условиях это документальное наследие, сделать его доступным современникам и будущим поколениям. Документы из личных коллекций и семейных архи- вов обогащают и расширяют наше представление о войне, дополняют живыми свидетельствами той эпохи деловые официальные документы. Благодаря таким неофициальным документам мы видим, что историю творили не безликие «массы» и «классы», а живые люди с героическими и трагическими судьбами.
Много внимания уделяют архивисты и хорошо зарекомендовавшей себя форме популяризации исторических знаний — выставочной работе. В августе 2014 года к 100-летию Великой войны были разработаны совместные выставочные проекты Государственного архива Ульяновской области с ульяновскими областными музеями и Музеем-заповедником «Родина В. И. Ленина».
В Ульяновском областном краеведческом музее была организована выставочная экспозиция «Эхо забытой войны» с использованием архивных материалов периода 1914—1918 гг. Документы показали Симбирскую губернию и сим-бирян в тылу и на войне, рассказали о патриотическом подъеме и манифестациях, военных заказах и росте цен, госпиталях и военнопленных, работе Красного Креста, благотворительности и деятельности Комитета спасения родины и революции. Подлинные документальные источники концептуально вписались в музейные артефакты, создавая эффект погружения в ту историческую эпоху. Выставка вызвала огромный интерес у ульяновцев и гостей.
Второй выставочный проект с участием архивистов под названием «Обретение гармонии» состоялся в Областном художественном музее. Представленные на выставке картины художников — участников Первой мировой войны и изобразительные архивные материалы (открытки, почтовые карточки, листовки, фотографии сим-бирян — участников войны и очевидцев тех событий) обращались не только к разуму, но в первую очередь к чувствам зрителей, создавали живую эмоциональную связь времен.
Еще одним значимым проектом Государственного архива стала выставка с давним партнером — Музеем-заповедником «Родина В. И. Ленина». Совместная экспозиция под названием «Забытая Великая война» была развернута в выставочном зале музея «Симбирская классическая гимназия». На выставке демонстрировались подлинные архивные документы, фотографии, открытки, плакаты, связанные с войной 1914—1918 гг. Это был еще один шаг в познании прошлого Симбирского-Ульяновского края, способствующий формированию региональной идентичности и воспитанию патриотических чувств у молодежи.
Наиболее сложной и ответственной работой по популяризации исторического прошлого для архивистов является подготовка сборников документов и материалов. Специалистами Государственного архива Ульяновской области завершена работа над документальным сборником «Симбирские страницы Первой мировой войны». Эта работа стала главной в плане расширения источниковой базы для изучения событий 1914—1918 гг. не только на региональном, но и на общероссийском уровне. Подготовка сборника потребовала от архивистов высокого профессионализма. Не секрет, что архивные издания советского периода выполнялись очень тщательно и отличались безупречной археографической обработкой, имели полный научносправочный аппарат. Подготовка их занимала порой 5—10 лет. С развитием информационных технологий время подготовки современных документальных изданий значительно сократилось, часто в ущерб качеству. Ульяновские архивисты в содружестве с профессиональными историками сделали все, чтобы избежать этого. Вместе с ульяновскими архивистами и историками над изданием работали специалисты из республик Татарстан и Чувашия. Это позволило не только расширить документальную базу, но и значительно повысить археографическое качество сборника.
Нужно отметить, что впервые в истории войн Первая мировая война была документирована с такой подробностью. В российских и зарубежных архивах хранится огромная документальная база, в том числе фотодокументы и кинохроника.
В фондах Государственного архива Ульяновской области, Национального архива Республики Татарстан, Исторического архива Республики Чувашия был отобран, оцифрован и археографически обработан значительный массив документов.
Сборник документов включает несколько тематических разделов: «В глубоком тылу», «Военнопленные, беженцы», «Военная цензура», «Письма, размышления, воспоминания». С одной стороны, будут представлены официальные документы периода Первой мировой войны, вышедшие из недр центральных и губернских органов власти (административных, судебных, земских), с другой — неофициальные источники — письма, воспоминания участников событий. Эти документальные свидетельства показывают войну глазами ее непосредственных участников (нижних чинов, офицеров) и простых обывателей.
Чтобы восстановить связь времен и поколений, архивисты постарались включить в сборник документальные материалы, полученные из семейных архивов современных жителей Ульяновской области. Эти уникальные артефакты — фотодокументы, письма, открытки, воспоминания — во многом не только обогатили фонды ГАУО, но и придали будущей книге дополнительную грань, которую нельзя выделить в официальных документах.
Предоставляя документы для историкокраеведческих изданий, ульяновцы сохраняют память о своих родственниках — участниках и очевидцах прошедших исторических эпох. В сборнике будет представлено значительное количество изобразительных документальных материалов, особенно фотографий. Работая над книгой, архивисты хотели обратиться не только к разуму будущих читателей, но и непосредственно к их чувствам.
Красной нитью в сборнике проходит мысль о том, что любая война — великая или локальная — это в первую очередь трагедия, слом привычного хода жизни миллионов людей.
Обращаясь к проблеме войны 1914—1918 гг., архивные специалисты рассматривали ее не только как покрытую славой страницу нашей истории, но и как незабываемую трагедию народов Российской империи начала XX века. Нельзя забывать, что в мировую войну было вовлечено 80 % населения земного шара, погибло 10 млн человек, 20 млн стали инвалидами.
Наша задача — через представленные в сборнике документы заставить современников задуматься над прошлым, извлечь уроки войны, воздав должное ее героям.
В Российской империи ее именовали «Великой Европейской» и «Второй Отечественной», в советской историографии закрепилось определение «империалистическая», в народе войну «окрестили» по главному противнику — «германская». Владимир Маяковский характеризовал её как «всемирнейшую мясорубку».
Но, несмотря на все трудности, именно в годы Первой мировой войны было завершено сооружение железнодорожного моста через Волгу, на Новом Венце был возведён прекрасный Дом-памятник Гончарову, а на Гончаровской улице установлен памятник императору Александру II.
Начало войны дало толчок развитию медицины и благотворительности: открывались госпитали и лазареты для больных и раненых воинов, собирались пожертвования в пользу военнослужащих и их семей, земские деятели выезжали в прифронтовую полосу для передачи тёплых вещей, продовольствия и многого другого.
Следует напомнить, что суконная промышленность губернии традиционно была ориентирована на снабжение армии, каждая третья солдатская шинель в Российской империи была пошита из сукна симбирских фабрик, производительность которых в годы войны значительно увеличилась.
На фронтах Первой мировой получили боевое крещение многие герои и полководцы Гражданской и Великой Отечественной войн. Среди них можно вспомнить нашего земляка генерал-лейтенанта танковых войск Василия Михайловича Баданова, уроженца села Верхняя Якушка (ныне Новомалыклинского района Ульяновской области).
В 1916 году в Заволжье началось строительство Симбирского патронного завода, ставшего одним из крупнейших промышленных предприятий края, который уже 19 июля 1917 года выпустил первую продукцию.
Восстановлению и закреплению в коллективной памяти страниц истории Симбирской губернии в период Первой мировой войны будет способствовать и публикация воспоминаний и мемуаров очевидцев тех событий.
В данной статье представляем фрагмент воспоминаний А. В. Ястребова, связанный с событиями начала Первой мировой войны, заставшими автора в его заграничном путешествии по Европе в 1914 году. Публикуемые воспоминания хранятся в личном фонде А. В. Ястребова в Государственном архиве Ульяновской области.
Алексей Васильевич родился 6(20) августа 1886 года в г. Ставрополе Самарской губернии в семье священнослужителя и купеческой дочери А. С. Зеленковой. Окончил Симбирскую духовную семинарию, затем с отличием Императорский Санкт-Петербургский историко-филологический институт. Педагогическую деятельность начал в Екатеринбурге учителем русского и латинского языков в мужской гимназии. Летом 1913 года с группой учителей посетил Австро-Венгрию, осмотрел достопримечательности Вены, Будапешта, Праги. Летом 1914 года вместе с коллегой по гимназии отправился в заграничное путешествие в Германию и Францию. Начало Первой мировой войны А. В. Ястребов застал в Европе. После революционного 1917 года он вернулся в Симбирск, где учительствовал в школах, училищах, работал на рабфаке. Более 25 лет Алексей Васильевич преподавал в Ульяновском педагогическом институте в должности старшего преподавателя. В 1967—1969 гг., по- сле ухода на пенсию, занялся краеведением. А. В. Ястребов оставил ряд замечательных воспоминаний о Симбирске и симбирянах конца XIX — начала XX века. Умер в 1969 году.
Публикуемые воспоминания хранятся в личном фонде А. В. Ястребова в Государственном архиве Ульяновской области в виде машинописной рукописи с авторскими правками текста. Воспоминания приводятся в авторской редакции. Рукопись датирована автором 1967 годом.
* * *
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ ЗА ГРАНИЦУ ИЗ РОССИИЛЕТОМ 1914 ГОДА (НАЧАЛО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ) [1]
Путешествия всегда невольно влекли меня к себе.
Они были сопряжены с чем-то новым, неизведанным и сулили что-то загадочное и, в то же время, приятное.
С возрастом, разумеется, масштаб путешествий изменялся.
Если в детстве и юности мои путешествия ограничивались Волжско-Камским водным бассейном, в котором я плавал на пароходах, то в студенческие годы я хорошо изучил Москву, Петербург и Финляндию, был и в Прибалтике.
По окончании С.-Петербургского историкофилологического института я был назначен в город Екатеринбург (ныне Свердловск), где преподавал русский и латинский языки в мужской гимназии.
Теперь район своих путешествий я перенёс на юг: облазил Кавказ, Крым, Украину, любовался Днепром в Киеве и Чёрным морем в Ялте и Севастополе.
Путешествие по России мне дало очень много, но меня интересовало, как живут люди за границей, которую я видел до того времени лишь в кинокартинах, да в книгах читал о ней.
Желание видеть быт и нравы людей за рубежом, познакомиться с культурой зарубежных стран, с их государственными и общественными учреждениями и порядками жило во мне неистребимо.
Для учителей в дореволюционные годы устраивались экскурсии за границу. Летом 1913 года я участвовал в экскурсии в Австро-Венгрию (Вена — Будапешт — Прага).
Эта экскурсия не совсем меня удовлетворила: 1) времени на экскурсию было отведено недостаточно, так что мы осмотрели далеко не все достопримечательности; 2) от экскурсии отставать было нельзя, поэтому я всё время чувствовал себя связанным. Я пришёл к выводу, что поездка в индивидуальном порядке за границу будет более эффективной, чем поездка с экскурсией.
Но для индивидуальной поездки необходимо хорошее знание хотя бы одного иностранного языка. Я довольно свободно владел немецким языком.
А получилось это таким образом. Первое время моей работы в Екатеринбурге (Свердловск) я, ещё не будучи человеком семейным, снимал комнату в квартире моего коллеги, преподавателя немецкого языка мужской гимназии, где и столовался.
В доме постоянно звучала немецкая речь: супруга моего коллеги преподавала немецкий язык в женской гимназии.
Их маленькая дочка Элеонора, которую все звали Лёлей, росла в кругу русских подруг и вне дома привыкла говорить по-русски. Однако дома родители заставляли её говорить по-немецки.
— Lolja, sprich deutsch! (Лёля, говори по-немецки!) — скажет, бывало, ей отец, и она сейчас же переходит на немецкий язык.
Слыша ежедневно немецкий язык, я быстро научился сначала понимать то, что мне говорили на немецком языке, а потом и сам стал свободно говорить по-немецки, так что за границей мне не нужны были переводчики.
Мы договорились с коллегой о поездке летом 1914 года в Германию и Францию, где мы предполагали прожить по две недели.
В середине мая мы закончили свои экзамены в гимназии и выехали по маршруту Берлин — Париж. Наш путь лежал через Петербург. Там мы решили не задерживаться. Но когда мы приехали в Петербург, я узнал, что в этот день там должно состояться открытие кабаре «Чёрная кошка».
В газетах о нём много писали как об оригинальном и весьма интересном театральном зрелище. Я решил побывать на открытии кабаре, а мои коллеги не пожелали посетить это зрелище и в тот же день уехали в Берлин.
Так как они бывали там раньше, то они дали мне адрес известного им отеля «Швейцер- гоф», в котором думали поселиться и на этот раз. Меня предупредили, что поезд в Берлин придёт рано утром и что отель находится совсем недалеко от вокзала Фридрихштрассебек-гоф, где останавливаются обычно все поезда, идущие из Петербурга в Берлин.
Посещение кабаре меня разочаровало: кроме пошлости я там ничего не увидел.
Я уже стал раскаиваться в том, что, поверив наглой газетной рекламе, задержался в Петербурге на целые сутки.
Петербургский поезд довёз меня до станции Вержболово, где происходили проверка паспортов, таможенный осмотр багажа и пересадка на немецкие поезда. Пройдя всего несколько шагов, я очутился на немецкой территории — в Эйдукене.
Дома и кирха были выстроены в готическом стиле в Эйдукене. Первое, что мне бросилось в глаза, была вывеска «K und K Poctamt» («Императорский и королевский почтамт»).
Заняв место в спальном вагоне Международного общества спальных вагонов, я благополучно доехал до Берлина без пересадки.
В Берлин поезд действительно пришёл рано утром. Однако на улицах уже было большое движение.
Я и ещё один пассажир бродили по перрону, тщетно ища носильщиков.
— Gepäckträger! (Носильщик!) — выйдя из себя, оглушительно крикнул пассажир.
Вдали показался носильщик.
— Иди же сюда, скотина! — заорал пассажир и сочно, по-русски, выругался.
Вдруг за нами раздался тихий смех, и молодая дама, выходившая из вагона на перрон, сказала, смеясь, приятным грудным голосом:
— По крепким словам везде можно узнать соотечественника.
— Пардон, мадам, — приподняв шляпу, вежливо сказал пассажир, — мои слова не были рассчитаны на Ваше присутствие.
— Понимаю и не обижаюсь на Вас, — сказала дама. — Но чего Вы кипятитесь? Вооружитесь терпением. Носильщики скоро сами сюда явятся. Фридрихштрассебангоф, где мы с Вами сейчас находимся, пропускает до восьмисот поездов в сутки. Вполне понятно, что носильщики не могут сразу обслужить всех пассажиров. Они отлично знают своё дело. Посмотрите, что здесь делается! Какая организованность!
Мы осмотрелись кругом и были поражены: одновременно двигались поезда по пяти-шести параллельным железнодорожным линиям, а затем расходились в разные стороны. И никаких звонков, никаких свистков, никакой суматохи! Пассажиры совершенно спокойно занимали свои места в поездах, заранее по указателям зная, куда им идти.
Такая организованность мне тогда показалась чудом после путешествия по русским железнодорожным линиям, особенно провинциальным, где после третьего звонка кондуктор с машинистом отправляются в буфет выпить рюмку водки.
Скоро пришли носильщики, взяли мой багаж и отнесли его к извозчичьему экипажу.
— Fuhrmann! Otel «Schweizerhoff»! Bitte! Schneller! (Извозчик! Отель «Швейцергоф»! Прошу! Быстрее!)
Извозчик с недоумением посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но иронически улыбнулся и сделал жест, приглашая меня занять место в экипаже. Я сел в экипаж, и мы тронулись в путь.
Из рассказов моих коллег я знал, что отель «Швейцергоф» находится недалеко от вокзала, однако я проехал по улицам Берлина 10, 20, 30 минут, а отеля всё ещё не было видно, хотя мы ехали скоро.
Наконец, извозчик остановился у отеля.
«По-видимому, — решил я про себя, — понятие о том, что далеко и что близко, слишком растяжимо. Я бы никак не мог сказать, что этот отель находится недалеко от вокзала, как меня уверяли коллеги».
В те годы у берлинских извозчиков, как и теперь в такси, были счётчики.
Я расплатился с извозчиком и вошёл в отель. Портье, узнав мою фамилию, сообщил мне, что комната для меня имеется, и провёл меня туда. Комната была большая и светлая. Обставлена она была просто и удобно. В ней не было той аляповатой красивости, которая встречалась в хороших гостиницах даже Москвы и Петербурга.
На столе лежали иллюстрированные журналы — «Lüstige Blätter» («Весёлые юмористические листы»), «Die Woche» («Неделя») и другие.
Я открыл последний номер журнала «Die Woche», и с первой его страницы на меня глянуло знакомое женское лицо. Под портретом было написано «Die Fänzerin Anna Pawlowa» («Балерина Анна Павлова»).
Знаменитая балерина была любимицей петербургской студенческой молодёжи. Никто, даже фаворитка Николая II Матильда Кшесинс-кая, не могла затмить таланта Павловой. В день нашего приезда в Берлине должны были начаться гастроли Павловой.
Мои коллеги ещё спали.
Прочитав журналы, я сел у окна и стал наблюдать за жизнью огромного города. На противоположной стороне города высился многоэтажный каменный дом. Он только что был сложен и покрыт крышей. Теперь в нём производились отделочные работы.
И вот я вижу: во двор новостройки входят молодые люди, одетые в новые костюмы, сшитые со вкусом, при галстуках и в котелках — это тогда был самый модный головной убор, представлявший собой шляпу, по форме похожую на металлическую солдатскую каску, только сделана была эта шляпа гораздо изящнее, чем каска, и уж, конечно, из материи, а не из металла. В руках у каждого молодого человека был небольшой чемоданчик. Через несколько минут эти молодые люди уже появились в рабочих комбинезонах и стали штукатурить, красить дом, вставлять окна и т. д. А вечером совершенно обратное превращение этих рабочих в джентльменов.
Все они шли спокойно по улице. В их обращении друг с другом чувствовалась вежливость. Не было слышно ни криков, ни ругани. Всё это как-то не вязалось с тем, что я видел у себя на родине, где рабочие были одеты небрежно, были неряшливы, ругались матом.
Конечно, передовые рабочие в России были другими, но с ними мне сталкиваться не приходилось, так что судить о них я не мог.
Между тем мои коллеги проснулись, и после завтрака мы отправились обозревать Берлин.
Пройдя квартал, мы завернули за угол, и я увидел тот самый вокзал, на который я сегодня приехал всего лишь несколько часов назад.
— Ну и чудеса! — невольно воскликнул я.
— В чём дело? — спросил меня мой коллега.
Я ему рассказал всё, как было.
Он громко рассмеялся и сказал:
— Это — обычная уловка берлинских извозчиков. Поняв, что седок совершенно не знает города, извозчик решил показать ему город; вот он и колесил по городу, чтобы таксометр показал возможно больше.
Только теперь я понял значение иронической улыбки извозчика.
В Берлине мне сразу бросился в глаза внешний вид города: его архитектура, прямые улицы, окраска домов: всё это в какой-то мере напоминало Петербург.
Но ещё больше меня поразили в Берлине строгие порядки, которых не было в России.
Проходя по Unter der Linden (Под липами), одной из центральных улиц Берлина, я случай- но плюнул на тротуар. Сейчас же подошёл ко мне дородный schutzmann (полицейский) в блестящей каске и белых нитяных перчатках, вежливо взял руку под козырёк, сказал строго:
— Ein Mark Schtraffe! (Штраф в одну марку!)
Я недоуменно посмотрел на полицейского: ведь я не хулиганил, не ругался, не орал во всю глотку, а шёл по улице спокойно.
Полицейский понял моё недоумение и, указывая рукой на тротуар, сказал:
— Das ist verboten (Это запрещено).
В то же время он кивнул на урну, стоявшую около тротуара.
— Приучайтесь к порядку! — рассмеялась жена моего коллеги. — Платите одну марку!
Ничего подобного ни в Москве, ни в Петербурге в то время я не видел, и это меня поразило. А штраф заплатить пришлось. И многое другое меня в ту пору поразило в Германии.
Извозчик, возивший нас в течение дня по городу, в конце концов, по нашему требованию подвёз нас к ресторану.
Когда мы сели завтракать, извозчик сел за соседним столиком и также завтракал, а потом стал читать газету, и никто в этом не увидел ничего удивительного. Я никак не мог себе представить, чтобы какой-нибудь извозчик, хотя бы и нарядный «лихач», в Москве или в Петербурге осмелился войти в ресторан: его туда не пустили бы, а газету он привык использовать только на завёртку, когда курил махорку. И нигде на улицах Берлина нельзя было увидеть пьяных или услышать матерщины, к сожалению, не изжитой ещё и в наши дни у нас даже в городах.
На улицах Берлина мы часто встречали напыщенных прусских офицеров с подкрученными кверху усами, как у кайзера Вильгельма II, а солдаты, похожие на манекены, отпечатывали шаги, высоко поднимая ноги.
Мы побывали в Постдаме, этом живописном уголке, осмотрели его достопримечательности. Особенно нам понравился дворец короля Фридриха с комнатой Вольтера, знаменитая мельница (Historische Müle).
В Берлине нас поразил огромный магазин Бертгейма, «народонаселения которого стало бы на целый уездный город», как писал в своё время И. А. Гончаров. В Москве мне приходилось бывать в универсальном магазине Мюр и Мерилиз, но Бертгейм по сравнению с ними показался мне гигантом.
У всех нас здесь буквально глаза разбежались при виде массы самых разнообразных товаров, красивых, привлекательных и притом недорогих.
Мы, помимо магазинов, днём посещали музеи и побывали в знаменитом Берлинском зоологическом саду, который, в отличие от Петербургского, имел строго научный, а не развлекательный характер.
Меня на каждом шагу поражали аккуратность и экономия немцев.
В мужских уборных, например, повсюду были установлены подставки с надписью «Zigaren-halter» («Подставка для сигар»). Немец даже в уборной никогда не бросит в мусорный ящик сигарету, которую он начал курить, а на время вставит её в подставку, а потом возьмёт опять и будет курить до конца. В вагонах, в каждом купе имелась не только холодная, но и горячая вода. Около умывальника находился продолговатый металлический тюбик с надписью «Seife» («Мыло»). Когда пассажир собирается умываться, он нажимает сверху на тюбик, и оттуда вылетает кусочек мыла, вполне достаточный для умывания одного человека, а обмылки бросает в небольшой ящичек. Рядом с умывальником находился шкаф, в котором были полотенца. Умывшись, пассажир бросал полотенце в ящик с надписью «Gebrauchte Handtuchen» («Использованные полотенца»), стоявший в коридоре вагона. Стоимость использованного полотенца и мыла включалась в билет мягкого вагона (спального). Абсолютная чистота в вагонах, предупредительная вежливость обслуживающего персонала — отличительная черта немецких железных дорог, наряду с абсолютно точным соблюдением расписания движения поездов.
Автомобилей в Берлине в тот год было ещё немного: внутри города преобладал конный транспорт; были, конечно, и трамваи, весьма удобные; о троллейбусах тогда ещё никакого понятия не имели.
Очень нам понравились немецкие кушанья — Apfel Kuchen и Schande Kuchen (яблочное и сметанное).
В ресторанных меню сказывалась немецкая экономия: здесь посетителям не подадут ни цыплят, ни поросят, потому что неэкономично их употреблять в пищу ранее, чем они подрастут.
Нам приходилось бывать в Winterpalast (Зимний дворец).
Это был весьма большой первоклассный ресторан с открытой сценой, на которой исполнялась обычная программа мюзик-холла: выступали певцы, певицы, акробаты, куплетисты, фокусники и т. д., но всё было прилично. Не было той скабрёзности и распущенности, какие обычно встречались в кафешантанах в Париже, так как здесь бывали благовоспитанные буржуа со своими жёнами и взрослыми детьми.
Один номер программы меня особенно поразил своей оригинальностью.
Певица-француженка, исполнявшая в сопровождении оркестра весёлую песенку, вдруг поднялась со сцены на воздушном шаре, пролетела над зрителями из конца в конец зрительного зала и в конце песни плавно опустилась на сцену.
Можете себе представить, какой восторг это вызвало у зрителей.
Немцы — большие любители пива. Я лично не принадлежу к числу больших любителей пива.
Когда в зале ресторана во время представления мы сидели за столиком, нам подали традиционное пиво.
Кельнер, заметив, что мой стакан уже пуст, спросил меня:
— Noch ein Glas Bier? (Ещё стакан пива?)
— Nein! (Нет!) — ответил я.
Надо было видеть изумлённое лицо кельнера, чтобы понять, как немцы любят пиво.
«Что это за чудак такой, — наверное, подумал кельнер, — который пьёт только один стакан пива в Берлине!».
И я это недоумение почувствовал в глазах его.
Надо заметить, что во время нашего пребывания в Берлине ещё ничто не указывало на близость войны; немцы к русским относились любезно и были вежливы и предупредительны.
Русские гимназисты в форме показывались на улицах Берлина, и это никого не удивляло.
Описывая путешествие по Германии, я отметил, что воинственность немцев тогда совсем не ощущалась. А, между тем, был один момент, который, пожалуй, можно было расценить как проявление воинственности немцев и их желание воевать.
Вскоре после нашего приезда в Берлин мы узнали, что организуется факельное шествие берлинских студентов (факельцуг). Это шествие, насколько мне помнится, было организовано в связи с проводами одного из скандинавских принцев, кажется, шведского, обучавшегося в берлинском университете и окончившего курс наук на факультете философии.
Зрелище факельного шествия было весьма интересно; оно импонировало своей торжественностью. Но, что самое главное, — это то, что оно до предела обнажило шовинизм немцев.
Во время шествия раздавались возгласы, ясно показывавшие, что немцы себя считают властелинами мира. Распевались ультра-патриотические песни, вроде «Die Wacht am Rein» («Стража на Рейне») или «Deutschland, Deutschland über alles» («Германия превыше всего»).
Немудрено, что на немецких вагонах, направлявшихся на фронт, были шовинистические надписи: «Ein Schuss — Russ, ein Stoss — Franzose» («Один выстрел — и нет русского, один удар штыком — и нет француза»). Но мы, настроенные весело, тогда были беспечны и по-настоящему не дали оценку факельцугу берлинских студентов перед войной. Мы недооценивали также и презрительное отношение немцев к русскому простому народу, который они называли не иначе как «Russische Schwein» («русская свинья»).
Такое отношение я наблюдал, например, на волжских пароходах к матросам со стороны немцев-капитанов, которые при случае не стеснялись пустить в ход кулаки, а по-русски они ругались виртуозно.
Само собою разумеется, предел жестокости, на которую были способны немцы, по своей натуре, ни перед Первой мировой войной, ни во время её ещё никому не был ясен.
Для этого надо было пережить Великую Отечественную войну со всеми её ужасами, концлагерями, душегубками и прочими «прелестями» «нового порядка», который повсюду хотел учредить бесноватый Гитлер.
От Берлина до Парижа езды немного более суток, и время прошло быстро. Во французских вагонах уже не было той чистоты, тех удобств, которые были обычными на немецких железных дорогах. По сравнению с чинным Берлином Париж нам показался слишком шумным городом. Мы заняли комнаты в скромном отеле «Европа» на бульваре Капуцинов № 20 и стали обозревать Париж. Обратило на себя наше внимание огромное количество автомобилей в Париже: конные извозчики там отживали свой век и встречались в центре города гораздо реже, чем автотранспорт.
Нам удалось побывать на Эйфелевой башне, конечно, не на самом её верху: там была оборудована радиостанция, и вход туда был запрещён. На Эйфелевой башне у нас появилось такое ощущение, что башня шатается из стороны в сторону и вот-вот рухнет.
Днём мы были всецело заняты посещением магазинов и музеев и достопримечательностей Парижа.
Парижские универсальные магазины нас поразили даже после того, что мы видели в Берлине у Бертгейма. Колоссальный магазин «О бон марше» помещался в семиэтажном здании, раскинувшемся на целый огромный квартал. Удобные эскалаторы быстро доставляли покупателей на любой этаж магазина. Обилие, разнообразие материалов, красивое оформление магазинов — всё это для нас было необычным.
У главного входа в магазин находилась табличка, в которой указывалось, на каком языке, кроме французского, можно говорить в данной комнате. Я помню: по-русски можно было говорить в комнате № 19. Мы, разумеется, побывали не только в комнате № 19, но бродили и по другим салонам магазина «О бон марше».
Однако наше знание французского языка явно было недостаточным.
Может быть, мы многое бы поняли из того, что нам говорили продавцы, если бы они говорили медленно, а не трещали, как пулемёт, выпуская неимоверно большое количество слов в минуту. Мой коллега слушал-слушал одну продавщицу, да вдруг не выдержал, выругался по-русски и оглянулся вокруг, вспомнив то, что было в Берлине на вокзале. По счастью, никто его не понял, жена его была в другом конце магазина, а продавщица выпучила глаза в недоумении.
На улицах Парижа обращали на себя внимание стройные фигуры парижанок и их элегантные туалеты, сделанные с большим вкусом по сравнению с безвкусицей немок и их малоизящными фигурами.
Мы своими глазами видели на улицах Парижа прогулки «мидинеток» в полдень, когда у них наступал обеденный перерыв, и они выходили из своих душных контор, мастерских, магазинов на улицы.
Тогда центральные улицы заполнялись массами хорошеньких девушек и молодых женщин, блиставших своей природной (а не искусственной) красотой. Непринуждённые шутки, разговор, радостный смех не умолкали ни на минуту.
Летом нас особенно поразила ночная жизнь в Париже.
Тогда посетители устраивались за столиками кафе и ресторанов прямо на тротуарах. Здесь же были устроены эстрады, на которых певцы и музыканты показывали своё искусство.
Особенно нам бросилась в глаза простота парижских нравов, которую в России обязательно приняли бы за распущенность.
Проходя вечером мимо одного ресторана, мы с изумлением увидели следующую картину: около одного столика на коленях у молодого мужчины сидела молодая миловидная женщина. Не обращая ни на кого внимания, они целовались, прерывая поцелуи ласковыми словами. Видно было, что оба они были вполне трезвы. Все окружающие, по-видимому, находили это в порядке [вещей]: никто не сделал ни одного за- мечания и никто не обращал на них внимания. Увидев такую картину, мы словно окаменели.
Женщина, заметив наше удивление, должно быть, приняла нас за провинциалов. Не переменяя своей позы, она послала нам воздушный поцелуй и рассмеялась.
«Разве можно было бы вообразить себе подобную картину на улицах Москвы или Петербурга? — подумал я. — Там полиция непременно вмешалась бы и посадила мужчину и женщину в кутузку за оскорбление нравственности».
Удалось нам побывать и в знаменитом Булонском лесу, где обычно дворянская аристократия и капиталисты показывали свои туалеты, дорогих лошадей и пр.
Народу в этом лесу было очень много. Изящные туалеты дам, украшенных бриллиантами, действительно, были великолепны.
Обычно за каждой коляской следовали всадники, встречались также и амазонки.
Посетили мы и знаменитый Версаль с его старинным дворцом французских королей. Версальские фонтаны невольно нас перенесли в Петергоф, который во многом близок Версалю по внешнему виду.
Версальский парк произвёл на нас большое впечатление. Здесь, как и в парижских парках, поразило нас то, что за сидение в парке на стульях надо было платить, правда, небольшую сумму денег: бесплатно можно было сидеть только на скамейках. Мы были очень удивлены, когда, встав со стула, были остановлены женщиной, у которой через плечо была перекинута сумка, как у трамвайных кондукторов.
Конечно, мы побывали и в «Нотр Дам де Пари» (Собор Парижской Богоматери), и на кладбище Пер-Лашез, у стены коммунаров, и во многих других достопримечательностях столицы Франции.
Посещали мы и театры.
В театре французской комедии нам удалось посмотреть «Синюю птицу» М. Метерлинка. В «Большой опере» мы видели «Фауст» Ш. Гуно.
Голоса певцов произвели на нас хорошее впечатление, но исполнение показалось нам трафаретным, и не мудрено: ведь в «Фаусте» мы слышали Шаляпина.
Опера «Кармен» Ж. Бизе, которую мы видели в «Опера комик», понравилась нам гораздо больше.
Партию Кармен исполняла молодая певица, должно быть, начинающая артистка, но её свежий, сильный голос, которым она владела свободно, задушевность интонации захватили зрителей.
Она держалась на сцене просто. Зал ей шумно аплодировал. Мы также присоединились к всеобщему ликованию.
Другие исполнители играли и пели хорошо, так что от спектакля сохранилось целостное впечатление.
Удалось нам побывать и в знаменитом ресторане Максима, и в «Мулен Руж», где русские великие князья и аристократы устраивали умопомрачительные кутежи, разбрасывая на ветер народные деньги.
Наше совместное путешествие закончилось.
Мой коллега отправился в Бад Наугейм, где он должен был принимать ванны, а я один отправился отдыхать в Швейцарию, ещё не подозревая близости войны. Так началась новая страница эпопеи моего заграничного путешествия.
Швейцария — всемирно известный курорт: она вся целиком состоит из санаториев, гостиниц, дач и т. п., куда стекаются массы туристов из Старого и Нового Света.
Там можно услышать разговор чуть ли не на всех языках мира, но жители Швейцарии сами говорят на немецком и французском языках. Есть, правда, и Итальянская Швейцария, но территориально она невелика.
Итак, я отправился в Швейцарию. Я посетил Берн, Базель, побывал на озере четырёх кантонов, где находился знаменитый Люцерн, воспетый Л. Н. Толстым.
Невольно вспомнился мне князь Нехлюдов с его переживаниями.
Само собою разумеется, [я] в то время ещё не имел понятия о том, что в Швейцарии одно время жил В. И. Ленин.
После длительного путешествия по немецкой Швейцарии я приехал в Женеву, где и поселился в одном из пансионатов.
Меня очень поразила дешевизна жизни в Швейцарии, отличное питание в пансионе, стоившее буквально гроши.
Пансионат находился на берегу Женевского озера среди живописной природы и полнейшей тишины. Голубое озеро мне очень понравилось. Я часто сидел на острове Руссо и любовался рекой Роной, вытекающей из озера.
Из Женевы я ежедневно выезжал на прогулку по озеру в курортные места — Лозанну, Вевё, Монтрё и другие, расположенные по берегам озера.
Меня заинтересовал знаменитый Шильон-ский замок на озере, воспетый многими поэтами, в том числе и В. А. Жуковским, и я поехал туда.
Огромный зал с его старинной громоздкой мебелью, в котором обычно пировали рыцари, показался мне слишком мрачным и суровым. Группе экскурсантов, вместе с которой я осматривал замок, показали то место, где томился гражданин Бонивар, и тот люк, через который выбрасывали в озеро трупы людей, казнённых по приказу жестоких герцогов Савойских.
С компанией экскурсантов я совершил путешествие в Швейцарские Альпы.
Мы приехали на Монблан в Шамони, где мы поднимались в район ледяного моря на фуникулёре. И странно было видеть вокруг лёд, а недалеко вверху вершины гор, покрытые вечным снегом, в то время как внизу было жарко.
Подниматься на горы на фуникулёре — подвесной канатной дороге — для нас было делом совершенно новым, а потому жутким. С непривычки невольно приходилось закрывать глаза. Сердца пассажиров сжимались от ужаса: казалось, вот-вот канат обязательно должен оборваться, и вагон вместе с пассажирами рухнет в бездонную пропасть и разобьётся вдребезги. А некоторые пассажиры вбили себе в голову, что вагон может застрять где-нибудь на полпути, и тогда люди успеют умереть с голоду прежде, чем кто-нибудь сможет прийти им на помощь.
Опытные пассажиры, поднимавшиеся на фуникулёре уже не первый раз, старались успокоить паникёров, внушали им, что все их опасения неосновательны, что фуникулёром пользуются многие тысячи людей, и никаких катастроф не бывает.
На площадке ледяного моря пассажиры надели специально им выданные тёмные очки: иначе нельзя было смотреть на лёд, сверкающий в лучах солнца.
В Женеве я посетил остатки старинных бастионов, в черте которых был разведён великолепный сад — любимое место отдыха женевцев.
В Женеву я попал как раз тогда, когда праздновался столетний юбилей присоединения Женевы к Швейцарскому союзу. Торжество было пышным. По улицам проходила торжественная демонстрация. На озере было много празднично украшенных кораблей. В полдень на одной из площадей был митинг, завершившийся салютом из пушек. А вечером на берегах озера было народное гуляние, сопровождавшееся красивым фейерверком.
И вот среди этого праздничного настроения зловеще прозвучал выстрел в Сараево.
Убийство австрийского эрцгерцога Франца
Фердинанда студентом Гаврилой Принципом всех встревожило не на шутку.
У меня невольно мелькнула в голове мысль: «Не вернуться ли сейчас же домой, пока не случилось никакой катастрофы?».
Очень уж мне не понравилось сараевское убийство: я опасался, как бы оно не повлекло за собой войны.
Но мои соседи по пансионату, русские, подняли меня на смех:
— Как бы чего не вышло?! Да чего ради Вы вздумали походить на Беликова? — говорили они мне. — Вам, учителю, не к лицу быть человеком в футляре в XX веке. Что-то раньше мы не замечали у Вас паники. Да и с чего это Вы взяли, что обязательно будет война? Откуда Вы это взяли?
— Конечно, наверняка я ничего не могу сказать, — возражал им я, — но политическая обстановка в Европе мне не нравится, да и европейская пресса настроена как-то нервозно.
Вскоре после сараевского убийства газеты перестали о нём писать, и я успокоился.
— Ну вот, видите: все Ваши опасения оказались напрасными, везде всё спокойно. Теперь пойдёт война дипломатическая. А оружие никто не осмелится пустить в ход: это палка о двух концах, — успокаивали меня мои собеседники.
Я спокойно продолжал свои путешествия по Швейцарии.
Посетил я академию изящных искусств в Женеве.
Там увидел я много по-настоящему замечательных картин и скульптур, от которых нельзя оторвать глаз.
Но там была в тот момент открыта выставка произведений художников-абстракционистов, точное название их школы я теперь не помню, но они во многом походили на наших футуристов.
Раньше как-то таких картин мне не приходилось видеть, и они меня прямо-таки ошеломили. На картинах человеческие фигуры состояли из нагромождения всевозможных геометрических фигур: треугольников, призм, конусов, квадратов и т. п.
Всё это было в состоянии повергнуть в недоумение человека, увидевшего впервые их в невероятном сочетании красок. Названия картин ни в какой мере не соответствовали их содержанию.
И всё-таки некоторые посетители этой выставки, по всей вероятности, ничего не понимавшие в живописи, а только рабски следовавшие моде, вслух восторгались этими «замечательными произведениями искусства».
Мало того, они ещё позволяли себе глумиться над произведениями художников-реалистов — этих замечательных мастеров прошлого, уже стяжавших мировую известность.
Всё это лицемерие было мне настолько противно, что я немедленно покинул эту выставку и с тех пор больше никогда не бывал на таких выставках.
В Женеве я неожиданно встретил своего хорошего знакомого Ивана Семёновича Горнова. Он в одно время со мной учился в Петербурге, только не в институте, как я, а в консерватории на дирижёрском факультете.
По окончании консерватории Иван Семёнович получил предложение занять должность регента хора церкви в Женеве.
Церковные службы там обычно происходили только в субботу вечером да в воскресенье утром, если на неделе не было праздников. А в остальное время Иван Семёнович у себя на квартире проводил репетиции хора, который был небольшим — человек 18—20, но пел весьма слаженно и с большим искусством.
Иван Семёнович однажды меня пригласил на репетицию. И тут я, к величайшему своему удивлению, узнал, что все хористы — французы.
Церковная служба как тогда, так и теперь, ведётся на церковно-славянском языке. Однако хористы-французы выговаривали чуждые им церковно-славянские слова настолько правильно, что ни один русский человек не мог бы догадаться, что поют иностранцы. В этом была огромная заслуга Ивана Семёновича, которому пришлось немало поработать с хористами, чтобы добиться правильности произношения и чистоты звучания.
— Ну, а с музыкальной стороны, — пояснил Иван Семёнович, — дело обстояло гораздо проще, все мои певцы имеют музыкальное образование и свободно читают ноты с листа, как бы трудны они не были.
Посольская церковь была не очень велика, но красива. Каждую службу она сплошь была заполнена людьми, так как в Женеве всегда было много русских туристов.
Кроме того, отличный хор и самая пышность церковного богослужения привлекали сюда не только верующих, но и иностранцев, желающих бесплатно посмотреть любопытное зрелище.
Однажды в воскресенье утром я пошёл с Иваном Семёновичем в посольскую церковь, находившуюся в центре города. Мы явились туда рано, когда там ещё никого не было, и, беседуя, сидели в небольшом скверике у церкви.
Народ мало-помалу начал собираться.
— Вот сейчас батюшка (священник) придёт, и начнём службу, да вот он идёт, — сказал Иван Семёнович.
Я озирался вокруг, тщетно стараясь увидеть привычно знакомую фигуру священника в обычной для него форме — в широкой рясе, с длинными волосами, но увидеть ничего подобного не мог.
— Да Вы не туда смотрите, — поправил меня Иван Семёнович, — вон батюшка переходит дорогу, направляясь к скверу.
Я посмотрел в указанном мне направлении и увидел довольно плотного человека уже в годах с проседью в волосах на голове и в аккуратно постриженной бороде. Одет он был в модный светло-серый костюм с галстуком, на голове у него была мягкая шляпа новейшего фасона. В руках отец Михаил — так звали священника — держал красивую тросточку с набалдашником из слоновой кости. На ногах у него были модные жёлтые туфли и красивые шёлковые носки.
Одним словом, по наружности и по костюму отец Михаил, скорее всего, был похож на представителя интеллигенции, а не на служителя религиозного культа.
Я выразил своё удивление тому, что в Женеве священник не носит традиционного облачения, установленного в России православной церковью.
— А это абсолютно невозможно, — пояснил мне Иван Семёнович. — Одно время пробовали было священники ходить за границей в той одежде, в какой они обычно ходят в России, да вынуждены были отказаться от этого: мальчишки за ними ходили табунами, сопровождали их появление на улице свистом, криком, оскорбительными замечаниями, так что от этого пришлось отказаться.
Много нового, невиданного я тогда узнал в Женеве.
И вот ещё одно новшество. В тот год жена Ивана Семёновича с детьми уехала в Россию к родным, и он остался в Женеве на положении соломенного вдовца.
Однажды поздно вечером мы возвращались с Иваном Семёновичем после спектакля домой.
В театре мы смотрели весёлую французскую музыкальную комедию.
Спектакль кончился поздно, и я, по приглашению Ивана Семёновича, решил у него переночевать.
— Вы, наверное, проголодались? — спросил он меня.
— Даже очень, — сказал я, — но уж как- нибудь потерплю: до утра осталось уже немного времени, а сейчас время позднее.
— Это не беда: продовольственные магазины у нас торгуют до полуночи. Сейчас мы зайдём в гастроном и купим там всё, что нам нужно для ужина.
Сделав закупки в магазине, мы вернулись на квартиру Ивана Семёновича.
— Покажите, где у Вас лежат дрова. Я мигом принесу их и разожгу плиту, — сказал я.
— А дрова нам не нужны, и ими здесь давно уже никто не пользуется: их везде заменяет газ.
Иван Семёнович подошёл к плите, поставил на конфорку кушанье и зажёг газ, а я так и застыл на месте от удивления.
Через несколько минут ужин был готов.
— Как это удобно! — невольно вырвалось у меня. — Не то, что у нас, в России, где даже в Петербурге газ употребляется только для освещения улиц, и газовых плит нет в помине даже в самых благоустроенных домах.
— Да, здесь есть такие удобства, каких у нас в России, к сожалению, ещё нет.
Посетил я Женевский университет и ту библиотеку, в которой, как я узнал впоследствии, работал В. И. Ленин.
Из Швейцарии незадолго до начала войны я на несколько дней выезжал на юг Франции.
Меня интересовал всемирно известный игорный дом в Монте-Карло.
По дороге туда я ненадолго задержался в Ницце — городе цветов, всегда переполненном туристами, очень живописном.
Монте-Карло принадлежало князю Монако, все владения которого состояли из нескольких десятков квадратных километров сказочно красивого уголка земли.
О рулетке раньше я много слышал и читал в газетах и произведениях художественной литературы, но мне хотелось своими глазами увидеть этот своеобразный мир. Ходили слухи о миллионных выигрышах отдельных счастливчиков и о колоссальных проигрышах неудачников, плативших за проигрыш своей жизнью.
Казино, в котором происходила игра, представляло собой красивое здание. Когда я после соответствующей формальности вошёл в зал рулетки вместе с группой посетителей, всех нас поразило выражение лиц игроков, охваченных азартом игры.
Одни, как безумные, не сводили своего пылающего взгляда с крупье, который словно священнодействовал во время игры; другие что-то несвязно бормотали, словно стараясь вспомнить забытое; третьи погрузились в глубокую задумчивость, по-видимому, обдумывая свою теорию беспроигрышной игры, сулившую им быстрое обогащение. Здесь же, в стороне от играющих, приютились ростовщики-кровососы.
Они покупали у неудачников за бесценок драгоценные вещи, а некоторые молодые, красивые женщины, всё ещё не терявшие надежды на выигрыш, продавали им своё тело.
Бывали случаи, когда неудачники тут же кончали жизнь самоубийством, но остальных это не отрывало от игры: так всесилен был азарт.
Долго бродил я по залам рулетки, изучая царившие там нравы, но азарта игрока во мне не было. Я колебался, поставить или не поставить мне какую-нибудь некрупную монету на кон для того, чтобы попробовать счастье, но так и не решился.
— Messieurs, faetes vote feu! (Господа, делайте вашу игру, т. е. начинайте же играть), — провозгласил крупье.
Пока я раздумывал, он провозгласил:
— Rien ne va plus! (Больше ничего, т. е. больше ставок ставить нельзя).
В этот момент моего колебания ко мне подошла какая-то полубезумная пожилая женщина.
— Monsieur (господин), я вижу, Вы здесь впервые, — сказала она по-французски. — Советую Вам воспользоваться моей системой. Она Вам наверняка принесёт счастье. Сейчас же ставьте на красное и нечёт, и Вы обязательно выиграете: новичкам всегда везёт.
— А почему Вы так думаете?
— Я знаю: я изучила все законы рулетки. Ставьте, как я сказала, и Вы не проиграете.
«Может быть, правда, поставить? — мелькнуло у меня в голове. — Ну, нет, какой я игрок! Меня это ничуть не привлекает. И мне только обидно и досадно за тех, которые в азарте теряют свой человеческий облик и превращаются в маньяков, одни сходят с ума, а другие кончают жизнь самоубийством. В общем, ужасное это место. И надо поскорее уносить отсюда ноги», — пришёл я к выводу.
Я сделал движение, чтобы уйти из зала рулетки.
— Как?! Вы уже уходите? Вы даже ни разу не попытали счастья в игре, — удивилась женщина, – это невероятно. Дайте хотя бы один луидор (золотая монета), а я поставлю на Ваше счастье.
Видя, что от неё не отделаться, я протянул ей монету и сказал:
— Вот Вам деньги, но поставьте их на своё, а не на моё счастье.
Женщина жадно схватила монету и, позабыв даже поблагодарить меня, побежала к рулетке. А я, не дожидаясь, пока она проиграет деньги, поспешно ушёл из казино.
«Какое это всё-таки безобразие, — возмущался я, — здесь, в просвещённой Западной Европе, людей открыто обирают дочиста. Хорошо, что я не являюсь жертвой того чудовища, которое называется азартом игрока. И удивительно то, что грабят людей не бандиты на большой дороге, а вежливые, воспитанные люди, которых здесь называют крупье. Говорят, они, прежде чем их допустят к рулетке, проходят свой курс науки. Какая нелепость! Учить одних людей, как лучше, быстрее, полнее грабить других, не применяя при этом никакого оружия. И заботятся здесь лишь о том, чтобы не было никаких скандалов, чтобы ограбленный человек, если он вздумает кончить жизнь самоубийством, не повлиял плохо на людей, охваченных азартом».
Погуляв немного и насладившись, действительно, великолепным видом на море, я отправился в Ниццу. По дороге пассажиры обменивались впечатлениями от поездки в Монте-Карло.
Среди них не было ни одного радостного, смеющегося лица.
На лицах одних виднелось отчаяние, другие словно окаменели и смотрели отсутствующим взглядом вдаль. Третьи казались равнодушными ко всему: это были пенсионеры рулетки.
Администрация казино лицам, проигравшим огромный капитал, платила в виде пенсии жалкие гроши. Им даже разрешалось играть, но выигрыши не оплачивались, а проигранные деньги возвращались обратно. Это были люди, в которых никакими силами нельзя вытравить азарт игрока.
Вернувшись в Женеву, я узнал, что в Петербурге происходят массовые забастовки и волнения рабочих. Я русских газет не читал, а те, которые читали, говорили мне, что начинается что-то похожее на революцию. И вновь у меня возникла мысль о немедленном отъезде домой.
Но жильцы пансионата успокаивали меня, и я колебался.
Меня несколько смущало то обстоятельство, что германские и австро-венгерские подданные, проживавшие в Женеве, один за другим уезжали домой, очевидно, не по своей воле. Но они делали это так ловко, что их отъезд не бросался в глаза, и это успокаивало людей.
«Ну, чего ради я поеду сейчас, летом, к себе на родину? — подумал я. — Там сейчас душно, пыльно, а здесь так прекрасно, что не хочется уезжать отсюда».
Хотя швейцарские газеты всячески старались сгладить неприятное впечатление от тех событий, которые происходили в мире, чтобы не вызывать массового отъезда туристов, однако замолчать события было невозможно.
Появились сообщения о приезде в Россию французского президента Пуанкаре, которого впоследствии называли Пуанкаре-война, о появившихся на улицах Петербурга баррикадах, но все говорили, что визит Пуанкаре внесёт успокоение в европейскую политику, тем более что в роли успокоителя собиралась выступить также Англия: настолько силён в человеке оптимизм.
Мы обращались в Женеве в русское генеральное консульство, и там нас заверяли, что никакой войны не будет, и советовали наслаждаться швейцарской природой.
Но вот появилось сообщение об австрийском ультиматуме Сербии, и всякие колебания сняло, как рукой. Не подозревая того, что война стоит у ворот, я с группой туристов рассчитывал вернуться домой через Германию. С этой целью мы отправились в Цюрих, чтобы оттуда, через Боденское озеро, отправиться в Германию, а затем в Россию.
Поезд, с которым нам надо было ехать, уходил только на следующий день около полудня, поэтому мы поселились в гостинице.
Швейцарские газеты за последние дни нам не нравились своими предсказаниями войны.
«Europa im Waffen!» («Европа в оружии!») — писали они тогда.
По приезде в Цюрих мы первым делом схватились за газеты и на первой странице прочитали: «Der Krieg noch nicht erklärt!» («Война ещё не объявлена!»). Это нас успокоило, и мы заснули с мыслью, что успеем проехать через Германию до начала войны. Однако, проснувшись рано утром, мы прочитали в газетах: «Der Krieg ist erklärt» («Война объявлена»).
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — воскликнули мы.
Теперь начиналась новая страница нашей жизни.
Итак, война объявлена, и путь через Германию закрыт.
«Что теперь делать? Каким путём можно вернуться в Россию?» — вот вопросы, которые в тот момент встали перед нами в Цюрихе, и мы долго ломали себе головы. Мы совсем было решили вернуться домой северным путём — через Францию, Англию и скандинавские страны — это был кратчайший путь. Однако план этот скоро рухнул, так как Франция и Англия входи- ли в Антанту, они неминуемо вот-вот начнут войну.
Так оно и случилось: Франция и Англия вскоре объявили войну Германии, к тому же немецкие подводные лодки сразу же стали преследовать и пускать ко дну суда Антанты в Ла-манше. При таком положении дела оставаться дальше в Цюрихе не имело никакого смысла, и мы вернулись в Женеву, в свой пансионат, где мы провели лучшие дни в Швейцарии.
На моё счастье, в момент объявления войны все деньги у меня были [в] швейцарской валюте, а за неделю до объявления войны я получил за два летних месяца жалование в швейцарских франках — самой устойчивой тогда валюте, так как Швейцария искони была нейтральной страной.
Впрочем, в тот момент в Швейцарии была объявлена мобилизация для охраны государственных границ на время войны.
Вот в данный момент я впервые ощутил трагедию войны и увидел её не на полях сражений, а в тылу.
Как только началась война, в Швейцарии произошло что-то невообразимое.
Многие тысячи, если не десятки тысяч богатых туристов, отдыхающих на курортах Германии и Австро-Венгрии неподалёку от швейцарской территории, словно горный обвал, неудержимо ринулись в Швейцарию, бросая по дороге своё слишком громоздкое имущество, потому что в Германии и Австро-Венгрии сразу же стали интернировать подданных стран Антанты. Маленькая Швейцария буквально захлебнулась от этого беспрерывного потока беженцев войны, жителей Старого и Нового света.
Швейцария, правда, всегда представляла собой сплошной курорт и располагала огромной массой отелей, пансионатов, гостиниц, санаториев и т. п. Однако в данный момент она оказалась не в состоянии предоставить жилище беженцам: так много их было в то время.
Туристы, невольно оказавшиеся в Женеве, вынуждены были целыми семьями располагаться под открытым небом в парках, скверах, садах, на набережных Женевского озера и на острове Руссо.
В эти дни вся Женева походила на гигантский цыганский табор. Повсюду валялись домашние вещи: сундуки, чемоданы, саквояжи, а то и просто узлы с нательным и постельным бельём или верхним платьем. Всё это валялось в беспорядке и было нагромождено друг на друга.
Беспрерывно и днём и ночью повсюду слышались гомон, плач детей, рыдания взрослых, ругательства чуть ли не на всех европейских языках. К величайшему счастью для жертв войны, в те дни стояла ясная, тёплая погода, и дождей не было совсем.
Но всё это ещё было полбеды: самые тяжёлые испытания ожидали злополучных заграничных путешественников впереди.
В те суровые дни Женева и другие города Швейцарии подверглись буквально денежному наводнению, так как сюда приехали состоятельные лица с аккредитивами и денежными знаками всех государств Европы и некоторых государств Америки.
В подавляющем большинстве случаев эти люди до начала войны не стеснялись в средствах и всегда имели на руках крупные суммы денег.
Вполне естественно, что скоро обнаружилось, что швейцарской валюты оказалось недостаточно, чтобы обменять все деньги, привезённые туристами, на швейцарские франки даже в банкнотах: золотые деньги исчезли из обращения сразу же после объявления войны.
Швейцарские банки вынуждены были прекратить обмен денег. Аккредитивы больше не оплачивались ни одним банком в Женеве. Тогда все приезжие кинулись к скупщикам золота и драгоценных камней.
И вот тысячные вещи продавались за жалкие гроши для того, чтобы купить кусок хлеба. Но и у скупщиков драгоценностей скоро вышли все деньги, и покупать больше им уже было не на что.
И вот богатые путешественники, имея аккредитивы на крупные суммы и драгоценные вещи, влачили полуголодное существование, а в некоторых случаях и голодали в полном смысле этого слова.
Вот она, трагедия войны!
В Женеве я случайно встретился с одним московским купцом по фамилии Котов. Это был чуть ли не миллионер, торговавший мануфактурой не только с русскими, но также и с заграничными торговыми фирмами. У него в кармане лежал аккредитив на 10.000 рублей, а он остро нуждался буквально в копейках, так как реализовать аккредитив уже было невозможно. Видя безвыходное положение семейного человека, я одолжил ему взаймы небольшую сумму в швейцарских франках, чтобы его дети не страдали от голода.
Вот тут-то я и убедился в том, что деньги и драгоценности, оказывается, не всегда имеют свою силу, иной раз на них не купишь и куска хлеба, а бриллианты, за которые богатые люди раньше платили большие деньги, теперь не имеют никакой цены и превратились в безделушку. На моих глазах как бы происходила переоценка ценностей. У беженцев создалось, в конце концов, невыносимое положение: им уже не на что было существовать.
Они обратились по телеграфу в русское посольство в Берне. Оттуда им ответили, что помощь им будет оказана через генеральное консульство в Женеве, куда им и надо обратиться.
В то же время один петербургский финансовый магнат, у которого раньше были крупные операции с виднейшим французским банком «Лионский кредит», договорился о помощи беженцам с управляющим этого банка в Женеве.
Тот получил на это согласие правления своего банка с тем условием, чтобы сумма пособия, выданного в Женеве во французских франках, была взыскана в русских рублях по возвращении беженцев на родину. Для этого генеральный консул должен был удостоверить выданную сумму, отметив её в паспорте каждого беженца за своей подписью и печатью. Казалось бы, дело это нехитрое, но…
Вот это «но» и причинило людям, оторванным войной от родины, немало мучительных волнений.
Русским генеральным консулом в Женеве был петербургский бюрократ барон фон Визель из прибалтийских немцев-помещиков. Это был пожилой, но всё ещё молодящийся человек, типичный петербургский чиновник, привыкший вращаться в высшем обществе.
Бледное, с землистым оттенком лицо; лошадиная нижняя челюсть, надменно поджатые губы, серые, со стальным отливом глаза и слегка крючковатый нос — всё это свидетельствовало о том, что этот сверхчеловек ставит себя превыше всех.
По его лицу было ясно видно, что свою молодость он провёл бурно в обществе таких же, как он, безумных прожигателей жизни, которых в то время неизвестно почему называли золотой молодёжью.
Среди беженцев войны было немало людей, которые занимали высокое положение в петербургском бюрократическом или коммерческом мире.
Но русский генеральный консул с ними не пожелал считаться. Когда беженцы обратились к нему за помощью, он, небрежно вбросив монокль в глазницу, скосил на них левый глаз и небрежно сказал, что он снесётся со своим начальством, получит от него инструкции, а беженцы пусть подождут до завтра. А завтра он им сказал, что никаких инструкций ещё не по- лучено, и им придётся подождать. И так беженцы ходили в консульство несколько дней подряд.
Наконец, терпение истощилось. Видная петербургская дама, жена товарища министра финансов, ведавшего таможенными сборами (муж её по делам службы оставался в Петербурге), находившаяся в весьма тяжёлом материальном положении с двумя маленькими гимназистами, в отчаянии воскликнула:
— Господин генеральный консул! Да поймите же Вы, наконец, что нам нечего кушать. Сами мы, взрослые, ещё сможем потерпеть, но у нас дети. Разве их можно так безжалостно мучить? У нас есть договорённость с «Лионским кредитом», возьмите наши русские деньги, на которые мы здесь ничего купить сейчас не можем, и помогите нам их обменять на французские франки!
Дама протянула консулу пачку русских денег.
— Я Вам, мадам, уже сказал, что я жду инструкции от начальства и пока ничего сделать не могу. А деньги, сударыня, Вы уберите.
— Так что же нам с ними делать?
— А это — уж Ваше дело. Хотите — берегите их, а не хотите — используйте их в уборной! — нахально заявил консул, надменно улыбнувшись.
Дама не выдержала и закатила ему звонкую пощёчину, которую все присутствовавшие сопроводили гулом одобрения.
Консул позвонил по телефону в женевскую жандармерию. Пришли жандармы и выставили всех на улицу.
— Вот и получили «помощь» от «своего» консула! — с горечью заметил один из видных московских адвокатов, бывший свидетелем этой отвратительной сцены. — И везде-то теперь немецкое засилье! В какого бюрократа в Питере ни плюнешь, он обязательно окажется немцем. Тьфу!
Адвокат с отвращением плюнул на мостовую по направлению к зданию консульства и досадливо махнул рукой.
В этот день из Женевы в посольство хлынул поток телеграмм с жалобами на фон Визеля.
Оказалось впоследствии, что он своевременно получил инструкции из посольства о немедленной выдаче денежной помощи беженцам, но не счёл нужным помогать «русским свиньям» и положил инструкции под сукно.
Фон Визель быстро и незаметно исчез из Женевы. На его место сейчас же прислали другого консула, русского по национальности, Лаврова, который моментально наладил выдачу пособий.
Наконец-то беженцы вздохнули свободно!
Хотя я лично в эти тяжёлые дни не испытывал материальной нужды, однако тяжело переживал страдания других собратьев по путешествию, чувствуя своё полнейшее бессилие помочь им и негодуя на бюрократизм дипломатических чиновников немецкого происхождения.
— Ну, теперь фон Визелю всыплют по первое число, — сказал один из беженцев.
— Как же! Держите карман шире! Разве немцы позволят расправиться с ним? Ведь сама царица — немка, — возразили другие.
Все с этим должны были согласиться.
— Итак, что же делать? — спросил я московского адвоката.
— Северным путём ехать нельзя — поедем южным: там войны ещё нет.
После продолжительных шумных дебатов мы решили поехать на юг Франции, в Марсель, с тем чтобы оттуда отправиться в Россию морским путём через Средиземное море, Дарданеллы и Босфор.
Путь в Марсель некоторым путешественникам был уже знаком. Теперь у нас уже не было тех удобств, которыми мы пользовались в начале нашего путешествия.
С большим трудом мы достали билеты третьего класса и ехали в вагоне, битком набитом путешественниками. Было жарко, душно и тесно. Спать было очень неудобно на жёстких скамейках тем, кто привык к мягким постелям, но мы готовы были мириться тогда со всякими неудобствами, лишь бы поскорее добраться домой.
Поезд шёл очень медленно. Он часто останавливался, и не только на больших станциях, но и на маленьких полустанках, мимо которых раньше курьерские поезда проносились вихрем.
Навстречу нам беспрерывно шли поезда с солдатами, снарядами, военным снаряжением: мобилизация во Франции шла полным ходом.
На первых порах в Марселе дело для беженцев войны складывалось, казалось, более благоприятно, чем в Женеве.
Пароходы компании «Мессажери маритим» ещё регулярно совершали рейсы в Константинополь (Стамбул), так как Турция в тот момент ещё не воевала, а из Константинополя в Россию так же регулярно ходили пароходы «Русского общества пароходства и торговли» по линии Константинополь (Стамбул) — Одесса.
В Марселе было русское генеральное консульство, и мы там записались на отправку на родину с очередным пароходом.
Беженцев здесь было меньше, чем в Женеве, и наш пароход должен был отойти от при- стани на третий день. Мы не без труда нашли место в гостинице, далеко не прекрасной, и решили время до отъезда на родину посвятить ознакомлению с Марселем. В этом городе война ещё почти не чувствовалась, а потому здесь и не было такого наплыва людей, как в Женеве.
Огромный портовый город Марсель поразил нас своими гигантскими доками. В порту ещё было довольно много пароходов под флагами разных стран, за исключением, разумеется, воюющих.
Я много слышал и читал об экзотике ночных кабачков Марселя и примкнул к группе туристов, собравшихся отправиться туда. Правда, нас предупреждали, что там далеко не безопасно, и можно нарваться на неприятности, но мы со свойственным молодости легкомыслием с этим не посчитались.
Большая, красочная толпа, говорящая на многих языках, экзотические танцы и песни незнакомых нам народов, безудержный темперамент людей, готовых тут же, на месте, мстить за нанесённую обиду и в то же время горячо приветствовавших какого-нибудь певца или остроумного куплетиста-рассказчика, — всё это оказалось гораздо более интересным, чем мы предполагали, и увлекало нас. На наше счастье, никаких ЧП в этом кабачке не было.
Отягощённые интересными впечатлениями, мы вернулись к себе домой и заснули, как убитые.
На первый взгляд дело с оказанием материальной помощи беженцам здесь было гораздо лучше: задержки в выдаче денег не было — однако здесь было безобразие иного порядка: на глазах у всех происходило ограбление русских беженцев, и они были бессильны сопротивляться этому.
Русским генеральным консулом в Марселе был Ставраки, грек по национальности. Это был человек невысокого роста, весьма юркий; глаза его, как мышки, быстро перебегали с одного предмета на другой, а из уст его, как из рога изобилия, сыпались приторные любезности.
Этот ещё молодой негодяй воспользовался несчастьем людей, оторванных войной от родины, для собственной наживы и действовал с непревзойдённым нахальством, облечённым в ультравежливую форму, зная наверняка, что всё сойдёт ему с рук, и он останется безнаказанным. Для этого он изобрёл свою, особую систему, дававшую ему возможность действовать без промаха и не опасаться огласки его преступных действий.
Установив предварительно вместе с каждым беженцем, возвращавшимся на родину, сумму, необходимую ему для оплаты расходов по возвращению домой, генеральный консул заранее отобрал у туристов паспорта для отметки в них о сумме выданного пособия, подлежащего по прибытии на родину возврату, проставлял в паспортах сумму, выдаваемую консульством за своей подписью и печатью. Это он делал якобы для удобства беженцев и для ускорения процедуры выдачи денег. На самом же деле это была лишь мошенническая уловка опытного жулика, спекулировавшего на несчастьях людей.
Ставраки предумышленно затягивал выдачу пособия до последнего момента пребывания беженцев в Марселе. И вот в последний момент, когда пароход уж готовился поднять якорь, и пассажиры должны были занять свои места на пароходе, консул стал выдавать деньги пассажирам в кабинете начальника морского порта.
Вот тут-то «русский» консул с кислой миной заявлял пассажирам, что консульство не может целиком и полностью сейчас выдать всю сумму пособия, так как в банке не хватило наличных денежных знаков, необходимых для полной расплаты с беженцами, недостающую сумму консульство может получить в банке только завтра и тогда расплатится со всеми полностью.
Легко представить себе, какое впечатление произвело это сообщение на пассажиров.
— Но Вы же знаете, что мы ждать не можем. Наши вещи находятся уже на пароходе, и он вот-вот снимется с якоря. Это безобразие! Вы не имеете права задерживать выдачу денег, — возмущались взволнованные пассажиры.
— Поверьте мне, господа, это зависит не от меня, а от банка, — говорил Ставраки, прижимая обе руки к груди. — Подождите до завтра, и, я ручаюсь вам, что вы всё получите сполна.
Но кто же из беженцев мог согласиться отсрочить свой отъезд до завтра, когда уже идёт война? Да неизвестно, что будет завтра. К тому же каждый знал, что на завтрашний пароход все билеты заранее проданы, и уехать на нём нельзя.
Что тут было делать?
Пассажиры на всё махнули рукой и уехали из Марселя, так и не получив деньги сполна.
А этот авантюрист, называвшийся русским генеральным консулом, ликовал, подсчитывая барыши в своём кармане.
Само собой разумеется, деньги из банка он получил полностью и ловко обманул беженцев, но это всё выяснилось гораздо позднее. Между тем на родине с пассажиров взыщут всю сумму, указанную в их паспортах. Правда, перед отходом парохода Ставраки обещал пассажирам, что невыплаченную сумму он переведёт по телеграфу в Стамбул, но он, конечно, не сделал этого: неизвестно, доедут ли до Стамбула пассажиры, а, может быть, и не доедут: это ещё бабушка надвое сказала, а деньги у него в кармане.
Вот так среди бела дня дипломатический чиновник царского правительства грабил своих соотечественников, измученных войной.
Я был уверен, что испытания мои кончились, и теперь я без труда вернусь в Россию, но оказалось, впереди меня ждали такие трудности, о которых я не мог и помыслить.
Некоторые из моих попутчиков были настроены панически.
— Удастся ли нам завтра уехать домой? Не преподнесёт ли нам война ещё какую-нибудь непредвиденную каверзу? — задавали они вопросы.
Их утешали, а Дамоклов меч уже висел над нами.
Проснувшись утром в день отъезда, мы прочитали в газетах:
«Пароходы компании «Мессажери мари-тим» мобилизованы военными властями для перевозки цветных войск (зуавов) и военного снаряжения из Африки. Пассажирские рейсы отменяются».
— Вот не было печали! — сказал я с досадой. — Попали мы в мышеловку. Как-то мы теперь из неё выберемся? Неужели застрянем?
Все беженцы задавали себе такие вопросы и не находили на них ответов. Все бросились ко всевозможным справочникам и географическим картам, стараясь отыскать лучшую трассу своего пути домой. Для всех было ясно, что дальнейшее пребывание в Марселе бесполезно.
Но что делать? Куда направить путь? Эти вопросы мучили всех нас.
По зрелом размышлении мы пришли к выводу, что нам ничего не остаётся другого, как вернуться в Женеву. И мы поехали туда.
— Что случилось? Почему опять вы вернулись? — спрашивал нас хозяин пансионата.
В душе он, разумеется, был рад этому, так как в связи с войной туристов в Швейцарии осталось немного, преимущественно американцы.
— Что вам помешало уехать?
Мы подробно рассказали ему о злоключениях в Марселе.
— Да, война ужасна. Она, как фатум, нависла над людьми, — вздохнул хозяин пансионата. — И нас война ударила по карману. Кому же придёт в голову путешествовать, когда кругом война? Отдохните, а там, глядишь, и надумаете, как лучше вернуться на родину.
Но отдыхать было нельзя: время не позволяло.
Итак, я снова в Женеве. На этот раз чудесный город показался мне невыносимым: он стоял на моём пути домой камнем преткновения.
После всестороннего размышления и обсуждения сложившейся ситуации я вместе с другими жильцами пансионата пришёл к выводу, что путь на родину возможен только через Италию.
В другое время как бы мы все обрадовались путешествию по Италии! Но теперь у всех нас после перенесённых неудач было смутно на душе. После наведения справок в Женеве мы узнали, что, кроме Марселя, пароходы в Стамбул ходят из Неаполя, и решили отправиться туда, так как Италия ещё не воевала.
— Ну что ж! В Неаполь — так в Неаполь!
Из Женевы в Швейцарию путь лежал через Симплонский туннель, самый большой туннель в Европе в то время.
Этот знаменитый туннель, тянущийся под землёй на расстоянии чуть ли не двадцати километров, соединяет Швейцарию и Италию и считался тогда кратчайшим путём между этими странами.
Когда все пассажиры разместились в вагонах электрической железной дороги, немало им пришлось наслушаться россказней о том, что в этом туннеле нередко бывают аварии: иногда по нескольку часов, а иной раз якобы даже несколько дней люди застревали в туннеле и бывали отрезаны совершенно от окружающих и как бы заживо погребены, пока их не освободят оттуда.
Рассказывали также и о том, что в некоторых случаях пассажиры даже находили в этом туннеле свою могилу.
Впоследствии оказалось, что все эти небылицы не соответствовали действительности: никаких аварий, угрожавших жизни людей, в Симплонском туннеле никогда не бывало.
Однако когда в пути внезапно всего лишь на несколько минут поезд остановился среди туннеля, и электричество в вагоне вдруг погасло, а потом стало чуть светить, непрерывно мигая, некоторые пассажиры порядком перетрусили. А некоторым в этот момент невольно пришла на память последняя картина оперы Джузеппе Верди «Аида», когда Радамес и Аида погибают в расцвете сил, замурованные в подземелье храма по приговору жестоких египетских жрецов.
— Вот и здесь также будет наша могила! — в панике со стоном воскликнул один из пассажиров.
— Откуда это Вы взяли? — набросились на него другие пассажиры. — Будет Вам психовать! Конечно, нас никто не покинет на произвол судьбы, если бы даже действительно произошла авария.
— Нет, нет, теперь всё может быть, — возражал он, — в военное время злоумышленники нарочно могут устроить аварию, чтобы нарушить правильное движение поездов.
— Но ни Швейцария, ни Италия не принимают участия в войне, так что устраивать здесь аварий нет никакого смысла.
— Нет, что ни говорите, а всё-таки ехать в этом туннеле страшно, — настаивал на своём пассажир.
Но страх этого пассажира оказался напрасным: через несколько минут, которые, не скрою, для всех пассажиров, в том числе и для меня, показались часами, поезд тронулся в путь и дальше уже вплоть до самой конечной станции нигде не останавливался.
Когда мы выезжали из Швейцарии, была пасмурная погода, моросил мелкий дождичек, в воздухе стоял туман.
Но вот, наконец, поезд вырвался из туннеля, и пассажиры очутились в Италии.
Поезд остановился на станции Домодоссола.
Голубое, яркое-яркое небо, ослепительно жгучее солнце, жаркая погода, красивые итальянские наряды и певучая речь — всё это восхитило пассажиров, и сразу создало жизнерадостное настроение.
Особенно им понравилось чудесное озеро Лаго Маджоре.
На перроне станции пассажиры увидели итальянских карабинеров, которые были одеты в причудливые головные уборы. Они так же, как и их французские коллеги-ажаны, ходили попарно.
После непродолжительных таможенных формальностей мы пересели в итальянский поезд и тронулись в дальнейший путь. Целый день мы ехали совсем недалеко от моря, так что пассажиры могли невооружённым глазом рассматривать изумительно красивый морской пейзаж и любоваться быстроходными яхтами и морскими лодками с треугольными латинскими парусами.
Вот вдали показался вечно дымящийся Везувий, и скоро поезд пришёл в Неаполь.
Неаполь с его красивым заливом произвёл на всех пассажиров чарующее впечатление. Неаполитанские народные песни, распеваемые на улицах города бродячими певцами, поражали всех своей оригинальностью и мелодичностью.
В Неаполь мы попали как раз в воскресенье рано утром, поэтому здание генерального кон- сульства оказалось запертым на замок. Сторож сказал нам, что в воскресенье здесь никогда никого не бывает, а поэтому нам придётся подождать до понедельника. Свободное время мы решили использовать на осмотр города и на прогулку к Везувию, который в тот день находился в спокойном состоянии.
Мы поднялись на такую высоту, что кратер вулкана вполне отчётливо нам был виден. Мы чувствовали удушливый запах серы и отчётливо слышали гул. Всем нам в этот момент невольно вспомнилась замечательная картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи».
Времени у нас было мало, и подробно осмотреть Помпею мы не могли, но всё-таки побывали в районе этого города, видели остатки древних римских жилищ с надписями у калиток: «Cave canem!» («Бойся собаки!»).
Даже этот беглый осмотр развалин нам доставил удовольствие.
Вернувшись вечером в гостиницу, где мы обосновались, мы с величайшим удовольствием слушали неаполитанские песни, которые у подъезда гостиницы пели два оборванца, аккомпанируя самим себе на гитаре и мандолине. С большим чувством они спели «Санта Лючия», «О моё солнышко» и многие другие народные песни. Хотя прежде я не один раз эти песни слышал, но в таком исполнении я слышал их впервые: экспрессии и чувства уличные певцы вложили в своё исполнение столько, что нельзя было равнодушно их слушать.
У них были чудные, молодые голоса, и я невольно сравнивал с ними голоса некоторых провинциальных оперных певцов, которых мне пришлось слышать. Какими жалкими в этот момент мне показались голоса этих певцов, хотя раньше я их слушал не без удовольствия.
На другой день нас ждала одна из неудач. Сведения, которые мы получили в Женеве о движении морских пароходов, оказались устаревшими: в связи с войной движение пароходов на Стамбул из Неаполя прекратилось. Консул нас отправил в русское посольство в Рим, где мы должны были получить точную информацию. В другое время посещение вечного города нам доставило бы огромное удовольствие. Но теперь наши головы безостановочно сверлила одна мысль: «Домой! Домой, во что бы то ни стало!».
В Риме нас посол принял весьма приветливо. Он сказал нам, что придётся обождать несколько дней, пока он наведёт справки. И, действительно, в Риме нам пришлось прожить три дня, которые мы использовали на осмотр достопримечательностей города.
Развалины Колизея надолго приковали к себе наше внимание и как бы заставили пройти перед нашим мысленным взором главные этапы истории Древнего Рима. Борьба Спартака как будто стала событием нашего времени для нас. Мы ясно себе представляли бои гладиаторов, когда-то происходившие здесь, как будто собственными глазами видели, как император, pollise verso (опустив указательный палец вниз), тем самым давал сигнал добить раба, смертельно раненного своим соперником в поединке.
В то же время невольно нам пришла на память и легенда об Андрокле, рабе, чья жизнь была спасена чудесным образом.
Андрокл, убежавший от жестокого господина в лес, там случайно наткнулся на льва, страдавшего от занозы. Андрокл вынул занозу из лапы льва, и лев исцелился. Андрокл, в конце концов, был пойман. В наказание он должен был быть отдан на растерзание диким зверям. А когда Андрокла привели на арену и выпустили на него льва, то лев, вместо того чтобы броситься на Андрокла и тут же его растерзать, стал ласкаться к Андроклу, как собачонка, помня оказанную ему услугу. Народ, поражённый невероятным зрелищем, стал требовать помилования Ан-дрокла, и император велел его освободить.
Нам очень хотелось побывать в Ватикане и посмотреть на папское богослужение, которое, как передавали, отличалось необыкновенной торжественностью, но римский папа очень редко появлялся перед народом, и в тот год такого богослужения, к сожалению, не было.
Во время путешествия по Италии всех нас поразила малокультурность итальянских городов по сравнению с городами других государств Западной Европы. На улицах было грязно, в трамваях на полу много плевков, окурков, апельсинных корок и т. п. Даже в центральных улицах на балконах роскошных домов можно было увидеть бельё, развешанное для сушки, матрацы, подушки и др.
Поразило нас также на улицах итальянских городов очень большое количество lazzaroni (нищих бродяг), которые назойливо осаждали путешественников, настойчиво требуя у них una soldi (мелкая монета) на макароны. На речных и морских пляжах туристы, преимущественно янки, развлекались тем, что, бросая в воду мелкие монеты, заставляли мальчишек нырять за ними в воду.
В конечном итоге мы пришли к выводу, что итальянский народ тогда жил бедно.
Я тогда не знал, что А. М. Горький жил на острове Капри, иначе обязательно побывал бы в этом чудесном уголке природы.
Осматривая тогда в многочисленных итальянских музеях произведения художников и скульпторов различных эпох, мы получили неизъяснимое эстетическое наслаждение. Всех этих творений замечательных мастеров искусства было так много, что мы потеряли им счёт. Если бы я стал описывать всё то, что мне удалось увидеть в Италии, мне пришлось бы исписать немало бумаги, но я не собираюсь этого делать.
Скажу только одно: особенно сильное впечатление произвели на меня творения Рафаэля Санцио: его мадонна и сейчас стоит у меня перед глазами, настолько она впечатляющая.
Во время путешествия по Италии я вспомнил, что здесь неоднократно бывал наш великий соотечественник П. И. Чайковский, который восхищался итальянскими песнями и плясками и даже их мелодии использовал в некоторых своих сочинениях, особенно в широко известном «Итальянском каприччио».
Хотя я и не изучал итальянского, но хорошее знание латинского языка меня выручало: к моему удивлению, многое из того, что я говорил по-латыни, итальянцы понимали.
Во время беседы с одним из прелатов на латинском языке я узнал от него много интересного.
В Италии мы чувствовали себя совершенно спокойно не только потому, что Италия ещё не воевала: нашему спокойствию много способствовало дружелюбное отношение к нам широких масс итальянцев.
Мы встречались с людьми не только на улицах, но и в ресторанах, тавернах (харчевнях). Там мы кушали замечательные итальянские макароны, запивали их необыкновенно вкусными итальянскими винами: Киянти, Лякрима Кристи, Асти Спуманте и другими. Во всех столовых и ресторанах итальянцы во время обедов, завтраков и ужинов пьют виноградное красное вино (не крепкое), как у нас квас или лимонад.
Узнав, что мы — русские, итальянцы открыто выражали нам свои симпатии. А итальянские офицеры, с которыми нам пришлось разговаривать, прямо заявляли, что если они будут воевать, то только на стороне Антанты, и смотрели на русских, как на своих будущих союзников в войне. Такое благожелательное отношение итальянцев, конечно, всех нас успокаивало.
К сожалению, вопрос об участии Италии в войне решали не эти простые люди, а итальянский король и его приближённые, толкнувшие Италию во враждебный нам лагерь.
По истечении трёх дней русский посол в Риме нам сообщил, что теперь надо ехать в Бриндизи, откуда мы уже наверняка доедем домой.
Наш путь лежал через Милан, и мы решили на короткое время задержаться в этом замечательном городе.
Меня и других любителей музыки, прежде всего, привлекал знаменитый театр Ла Скала в Милане, считавшийся тогда одним из лучших оперных театров мира.
На сцене этого театра с поразившим всех успехом выступал знаменитый оперный певец Фёдор Иванович Шаляпин в начале текущего столетия. Он своим талантом покорил даже весьма требовательных к певцам итальянских зрителей и с презрением отверг предложение клакёров сделать ему успех за деньги.
Однако при первом его появлении на сцене в партии Мефистофеля в одноимённой опере А. Бойто клакёры, которые хотели его освистать за отказ в уплате им денег, вынуждены были замолчать: овации были настолько мощными, что публика разорвала бы клакёров на части, если бы они позволили себе освистать талантливого певца. И опера «Мефистофель», которая до выступления в ней Шаляпина успеха не имела, теперь стала репертуарной.
В тот день, когда мы приехали в Милан, в театре Ла Скала шла опера Масканьи «Сельская честь» под управлением автора. Нам удалось побывать в театре в этот вечер.
Спектакль нам очень понравился: солисты, хор и оркестр были выше всякой похвалы.
Теперь Ла Скала действительно оказался великолепным. Акустика в нём поразительная. Места для зрителей расположены весьма удобно, так что отовсюду сцена видна, как на ладони.
Проезжая через Венецию, мы надолго остановились там, катались на гондолах, любовались дворцом дожей и другими достопримечательностями города.
Этот город, изрезанный бесконечной сетью каналов, показался нам тогда живым воплощением средневековья с его инквизицией.
Невольно мне вспомнились сцены из оперы Понкиелли «Джиоконда», которая мне очень нравилась и которую я не раз видел на сцене. Романтическая история Энцо Гримальдо, герцога Санта-Фьор, любовь Лауры, трагическая гибель Джиоконды и коварство Барнабы — всё это мгновенно промелькнуло в моей голове. Попутно вспомнил я и роман Амфитеатрова «Сумерки божков», где под именем Андрея Берлоги был выведен знаменитый русский певец Шаляпин.
Наконец, мы достигли указанного нам в Риме города.
— Вот и Бриндизи! — воскликнули пассажиры с такой радостью, с какой, наверное, матросы Христофора Колумба в конце своего путешествия кричали: «Земля! Земля!»
— Ну, теперь то уж наверняка пришёл конец нашей скачки с препятствиями, — сказал я.
— Не спешите с выводами, молодой человек! — возразил мне московский адвокат, с которым я уже успел подружиться. — Неизвестно ещё, «что день грядущий нам готовит», — пропел он вполголоса эту фразу из арии Ленского.
Но как бы то ни было, настроение у всех пассажиров поднялось, когда они узнали, что огромный комфортабельный теплоход «Сицилия» уже стоит в порту Бриндизи, готовый к отплытию [на] завтрашний день. Бриндизи представлял собой небольшой приморский белокаменный городок. Мы все безо всяких затруднений устроились в отеле.
Услужливый камерьеро (слуга) проводил нас всех в удобные комнаты, обставленные неплохо, с видом на море.
Все пассажиры сразу же достали места в каютах на теплоходе.
Никаких достопримечательностей в Бриндизи не было, и мы целый день купались в море и загорали на пляже. Была хорошая погода в начале августа.
Теплоход «Сицилия» отправлялся по маршруту Бриндизи — Афины, вернее говоря, он шёл до Пирея, являющегося гаванью Афин. Затем нам предстояло в Пире пересесть на другой пароход, который должен отправиться в Салоники.
Теплоход отчаливал из Бриндизи вечером, часов в пять.
Все мы заблаговременно разместились в удобных, комфортабельных каютах.
Выйдя на палубу незадолго перед отправлением теплохода, мы убедились в том, что он представляет собой огромный плавучий город, в котором собрались люди различных стран и национальностей.
В порту царила обычная перед отходом теплохода суетливость. Вот, наконец, загудел последний гудок, и, снявшись с якоря, теплоход медленно двинулся к выходу из гавани.
Был прекрасный августовский вечер. На море стояла полнейшая тишина, лишь изредка чуть-чуть веял лёгонький ветерок, приносивший с собой приятную прохладу.
На совершенно безоблачном небе сияла ог- ромная луна, бороздя море причудливыми дорожками серебристого света.
Волны двигались лениво, сопровождая своё движение приятным однообразным шумом, который успокаивающе действовал на нервы людей, уже порядочно издёрганные за время войны.
Все пассажиры в этот чудесный вечер, казалось, совсем уж позабыли о тех горестях и волнениях, которые выпали на их долю с начала путешествия в военное время.
Все теперь были настроены радостно, оптимистически, потому что они теперь были уверены в своей безопасности и считали вполне реальными надежды на скорое, беспрепятственное возвращение домой. Все не сомневались в том, что их мытарства уже кончены, и путь домой теперь уже будет представлять собой увеселительную прогулку.
Война идёт где-то далеко отсюда, там, на полях сражения, льётся человеческая кровь, развёртываются гигантские сражения.
А вот здесь, на теплоходе, всё дышит спокойствием, и ничто, кажется, не напоминает о войне. На самом же деле всё это только казалось пассажирам теплохода.
А война уже была буквально в двух шагах от них. Скоро она дала себя почувствовать преждевременно успокоившимся людям.
Мирное настроение пассажиров было нарушено совершенно неожиданно.
После сытного ужина на палубе послышались весёлые песни, кто-то начал плясать, как вдруг…
Вот уж правильно поётся в песне «до смерти четыре шага». И эти четыре шага мы ясно почувствовали, находясь очень далеко от линии фронта.
До наших ушей откуда-то стали долетать неясные шумы. Отдельные пассажиры стали было прислушиваться к ним, но так как большинство пассажиров было увлечено весельем, то они скоро перестали на них обращать внимание.
Между тем, приближаясь всё ближе к теплоходу, шум с каждой минутой становился всё более и более отчётливо слышным. Только тогда пассажиры начали беспокоиться.
— Что бы это могло значить? — спрашивали они друг друга. Но ответа на этот вопрос никто дать не мог.
Шум, с каждой минутой усиливаясь, превратился в гул.
Ночь была настолько ясная, что «хоть иголки собирай», а совершенно безоблачное небо исключало появление где-нибудь поблизости сильной грозы.
Пассажиры, с каждой минутой волновавшиеся всё больше, обратились за разъяснениями к капитану, но тот ничего конкретного сказать не мог и лишь в недоумении пожимал плечами. За время войны пассажиры уже не раз читали в газетах сообщения о том, что военно-морские корабли воюющих стран останавливают на морских путях пароходы, плавающие под флагами враждебных им государств, и снимают с них, как военнопленных, пассажиров, являющихся подданными тех государств, которые с ними воюют.
Само собою разумеется, ни одному пассажиру не улыбалось быть интернированным во враждебной стране и надолго оторванным от своей родины, от своей семьи, а поэтому все очень волновались.
Некоторые пассажиры пытались успокоить паникёров, говоря, что это, наверное, происходят учебные стрельбы итальянского военноморского флота, который не принимает никакого участия в начавшейся войне, а войны на нейтральной территории вообще никогда не будет.
Но вскоре происшедшие события опровергли все эти предположения как несостоятельные.
Вдруг на горизонте появились очертания какого-то судна. Оно, непрерывно давая световые сигналы, быстро приближалось к нам.
Когда корабль стал отчётливо виден даже невооружённым глазом, не осталось никакого сомнения в том, что это эскадренный миноносец.
Остановившись неподалёку от теплохода, он стал мигать огнями с различными перерывами, но что обозначали эти сигналы, никто из нас не знал.
Машины теплохода вдруг перестали работать, и он остановился.
Все снова бросились к капитану за разъяснениями, и опять он ничего не мог сказать определённо.
Между тем с миноносца на воду была спущена шлюпка с людьми.
Когда она пришвартовалась к пароходу, на палубу поднялся офицер с обнажённой саблей в правой руке и с револьвером в левой. За ним последовали шестеро матросов, вооружённых винтовками. Все пассажиры так и оцепенели от ужаса.
У каждого сейчас же возник в голове вопрос: кого сейчас снимут с теплохода? Уж не его ли в первую очередь?
Офицер с капитаном вошли в каюту, а матросы заняли указанные им офицером посты.
Довольно долго офицер миноносца, который, как оказалось, был английским, оставался в каюте капитана.
Наконец, оба они вышли оттуда, а затем, в сопровождении солдат, вошли в пассажирское помещение, откуда через несколько минут вывели несколько человек в штатских костюмах.
Это были германские и австро-венгерские подданные, ехавшие на этом теплоходе на родину и интернированные англичанами.
Узнав об этом, все пассажиры вздохнули свободно, но успокоение было преждевременным: испытания ещё только начинались.
Миноносец, дав световой сигнал, быстро исчез вдали.
Казалось, теперь путь был свободен.
И, действительно, теплоход тронулся в путь.
Сколько времени он шёл спокойно, теперь уже трудно сказать. Гул с каждой минутой становился сильнее. Теперь уже было ясно, что где-то на море шёл бой.
Все стали тревожно смотреть вдаль.
— На горизонте видна группа кораблей! — воскликнул один пассажир, вооружённый великолепным цейссовским биноклем. — Ясно видны вспышки орудийных залпов и столбы воды, поднимаемые вверх разрывающимися снарядами.
— Нет, нет, вы посмотрите ещё правее! — воскликнул другой пассажир, тоже смотревший в бинокль. — Там тоже ясно видна большая группа военных кораблей, и оттуда также доносятся звуки артиллерийской канонады.
Между тем обе группы военных кораблей медленно, но неуклонно приближались к теплоходу.
Теперь все без исключения пассажиры отчётливо видели корабли даже невооружённым глазом. Столбы воды в результате взрывов снарядов стали подыматься уже неподалёку от теплохода, так что капитан остановил теплоход, не желая подставить его под выстрелы.
Сколько времени теплоход стоял на месте в непосредственной близости от развернувшегося на наших глазах морского боя, сказать теперь трудно, но пассажирам, в том числе и мне, это казалось вечностью. Наши чувства может понять только тот, кто сам участвовал когда-либо в морском бою или был свидетелем морского боя, таким, какими были мы.
Невозможно описать, что в эти минуты происходило на теплоходе: женщины рыдали, некоторые в отчаянии рвали на себе волосы, дети плакали навзрыд, даже некоторые мужчины потеряли самообладание и нелепо топтались на палубе.
Нашлись и такие, которые убежали в каюты и зарылись там головами в подушки, думая, что это спасёт их от гибели. Но напрасно: все от- лично понимали, что от снарядов спрятаться нигде нельзя, что в случае повреждения теплоход неминуемо пойдёт ко дну, и никто не сможет помочь пассажирам.
Вдруг на горизонте что-то вспыхнуло таким ослепительно ярким светом, что глазам сделалось больно, и сейчас же послышался оглушительный взрыв. Как оказалось впоследствии, англо-французская эскадра настигла в Адриатическом море австро-венгерскую эскадру и завязала с ней бой, в результате которого был взорван один неприятельский крейсер. Как потом мы узнали, такой ослепительный взрыв получился оттого, что мина англо-французской эскадры попала в склад боеприпасов неприятельского крейсера. Мало-помалу обе группы военных кораблей удалялись от теплохода. Тот же самый, а может быть, и другой миноносец опять посигналил теплоходу огнями, и теплоход тронулся в дальнейший путь.
Таким вот путём пассажиры теплохода стали невольными свидетелями морского боя и получили «боевое крещение».
После окончания морского сражения немало было ещё волнений.
Наконец, все пассажиры успокоились, однако после таких сильных переживаний уснуть не могли.
Надо ли говорить о том, сколько потом было разговоров на теплоходе о чудесном спасении от неминуемой гибели?
Итак, не побывав на фронте, мы участвовали в морском сражении, правда, невольно, и не были непосредственными участниками сражения, но мы могли погибнуть ни за что ни про что.
Казалось, теперь-то все испытания уже позади, но, на самом деле это было не так.
Война есть война, и она преподносит как на фронте, так и в тылу, такие «сюрпризы», которых никто никогда не может предугадать.
Но так как никто из нас не мог знать, что ожидало нас впереди, то все мы были спокойны.
На следующий день после морского сражения «Сицилия» по расписанию остановилась на острове Корфу.
Здесь когда-то знаменитый русский флотоводец адмирал Ушаков одержал блестящую победу.
В этом необычайно живописном уголке земного шара находился роскошный дворец германского Кайзера Вильгельма II.
После начала войны этот замок был национализирован греческим правительством.
Дворец находился среди большого парка и назывался «Ахиллейон». Целый день мы прове- ли во дворце и парке. Нас восхитили изящные скульптуры, которые в большом количестве были расставлены в разных уголках парка. Всё в этом парке было очень хорошо, так успокаивающе действовало на напряжённые нервы путешественников, что им прямо-таки не хотелось уходить отсюда.
Как раз во время нашего пребывания на острове Корфу в гавань зашёл почтовый пароход.
Мы сразу же приобрели газеты, горя нетерпением узнать, что происходит на белом свете. Из газет мы узнали много интересного с театров войны.
Из разговоров с моряками выяснилось, что тот морской бой, свидетелями которого мы были накануне, представлял собой один из эпизодов большого морского сражения, разыгравшегося в Адриатическом море. Оказалось, английская эскадра, обнаружив в море австро-венгерскую эскадру, напала на неё. Те вспышки на горизонте, которые мы видели с теплохода в бинокль, явились результатом взрывов. Три корабля противника англичане отрезали от основных сил, сделали их небоеспособными и захватили, а один корабль взорвали.
Все пассажиры возблагодарили судьбу за то, что бой прошёл стороной. А у многих по коже прошёл мороз при мысли о том, что теплоход мог оказаться в самом центре боя и погибнуть от артиллерийских снарядов, укрыться от которых было негде, так как кругом вода.
Вечером «Сицилия» пришвартовалась в албанском порту на Адриатическом море Санти-Кваранта. Этот порт выглядел совсем невзрачным и казался неблагоустроенным. Видно было, что люди здесь живут очень бедно. На берегу было немного домов европейского типа. Повсюду виднелись жалкие лачужки.
Едва теплоход успел бросить якорь в порту, как на него сразу же по якорной цепи взобрались мелкие торговцы. Они наперерыв предлагали пассажирам свои нехитрые товары: фрукты, сладости, сувениры и т. п.
Некоторые из них очень настойчиво приставали к пассажирам, желая во что бы то ни стало поскорее сбыть свои товары, опередив, таким образом, своих конкурентов. Из этого порта теплоход вышел поздно ночью, когда все пассажиры уже спали.
Очень большое впечатление на всех пассажиров произвёл Коринфский канал, который теплоход проходил после полудня.
И вот, наконец, «Сицилия» пришвартовалась в гавани Пирея.
Несколько английских броненосцев, похожих на гигантские утюги, стояли на рейде Пирея. Они напоминали пассажирам, что идёт война.
Из Пирея мы сейчас же отправились в Афины, где нам пришлось прожить пять дней до тех пор, пока мы не устроились на пароход, отправлявшийся в Салоники по Эгейскому морю.<***> 12
Наконец, деньги были получены, и все путешественники разъехались по домам. В вагоне железной дороги только и было разговоров, что о войне, о беженцах, о подвигах.
Все, с кем приходилось разговаривать на станциях, сообщали нам, как быстро и организованно прошла в России мобилизация в начале войны и не было таких инцидентов, какие наблюдались во время Русско-японской войны.
Это объясняется тем, что сейчас же после объявления войны повсюду были закрыты винные лавки, чем была предотвращена возможность пьяных дебошей в период мобилизации.
Впрочем, заядлых пьяниц это запрещение продажи вина не остановило. Они пили все, в чем был алкоголь: одеколон, денатурат и т. п., очищая их своим способом. И это далеко не всегда было безопасно: одни умирали, а другие ослепли.
В поезде мы впервые услышали слово «измена» в связи с предательским поведением немецкой клиники при царском дворе, пользовавшейся покровительством жены Николая II Александры Федоровны, в прошлом немецкой принцессы, под влиянием которой находился безвольный царь.
Нас поражало большое количество поездов с солдатами и военным снаряжением, шедших на запад, и санитарных поездов, идущих с фронта.
На станциях появились первые георгиевские кавалеры — офицеры и солдаты, на которых все смотрели с величайшим уважением, как на народных героев.
Поражало большое количество прапорщиков (первый офицерский чин), часто немолодых, призванных на войну из запаса.
Во время возвращения домой мне не один раз приходилось быть свидетелем трагических сцен, когда родные провожали на войну единственного сына — кормильца семьи и дома, и оставалась только одна женщина с кучей ребятишек мал-мала меньше и с неопределенными надеждами на возвращение мужа домой.
Во время войны почтово-телеграфная связь между государствами была расстроена, поэтому вполне естественно, что ни директор гимназии, ни мои сослуживцы-учителя ни одного моего письма за время войны не получали и не имели ни малейшего понятия о том, где я находился в период военных действий и что со мной происходило в то время. Я, в свою очередь, не имел возможности читать русские газеты и абсолютно ничего не знал о том, что происходит на родине.
В иностранной печати даже нейтральных государств события, происходившие в России, освещались весьма скупо, крайне тенденциозно, а иногда даже в оскорбительной для нашего отечества форме.
Следует отметить, что западноевропейские газеты как до войны, так и в военное время весьма охотно помещали на своих страницах все, что в той или иной мере дискредитировало правителей России.
Надо ли говорить о том, что в гимназии, когда я там появился после возвращения из-за границы, меня считали если не погибшим, то без вести пропавшим.
В начале войны в России ходили всевозможные рассказы о том, что русские люди, случайно застигнутые войной на территории воюющих государств, были тотчас же интернированы, как скотина, загонялись за решетки, подвергаясь в то же время всевозможным издевательствам и оскорблениями.
…С первых же недель ясно почувствовалась разграничительная линия между новоявленными капиталистами, которые были очень рады войне, дававшей им колосальные прибыли от всевозможных поставок военному ведомству, где было немало жульнических махинаций, и массой трудящихся, которая с каждым месяцем войны страдала все больше и больше от дороговизны жизни, которая росла бешеным темпом параллельно с ростом прибылей капиталистов.
Уже в первые недели войны, после неудачного похода в Восточную Пруссию армии генерала Самсонова, не поддержанного своевременно генералом Ренненкампфом, в русском обществе начала чувствоваться неуверенность в успехе войны и прочности существовавшего тогда в России царского режима.
Хотя первый год войны ещё не оказал заметного разрушительного действия на экономику тогдашней России, но уже ясно начинало чувствоваться и в то время, что наша экономика, что называется, трещит по швам. Цены на продукты питания из месяца в месяц стали неуклонно повышаться, а реальная ценность денег катастрофически падала вниз.
Настроение масс быстро ухудшалось.
От патриотических настроений, которые имели место в первые недели войны, скоро не осталось и следа.
Первые наши неудачи на фронте ясно показали, что быстрого окончания войны, как этого ожидали заядлые оптимисты, теперь ждать нельзя.
Приезжавшие с фронта офицеры и солдаты рассказывали о бездарности царских генералов, попусту губивших русских солдат, о предателях, которыми кишело все, начиная с царской верхушки.
У всех, в конце концов, сложилась твердая уверенность в том, что та свистопляска, которая начиналась уже в первый год войны, долго продолжаться не может, что революция неизбежна, и вопрос только в том, когда она наступит.
Вот какие настроения я обнаружил в России после возвращения на родину из заграничного путешествия.
И всё то, что мне пришлось пережить по дороге домой из-за границы в самом начале войны, показалось мне теперь детской игрушкой по сравнению с той катастрофой, которая, как уже и тогда чувствовалось, неминуемо надвигается на Россию и должна завершиться революцией.
Несмотря на неудобства и неприятности, которые мне пришлось испытать за рубежом, все-таки это путешествие доставило мне несказанное удовольствие.
Благодаря войне, я побывал в таких местах (Балканы, Марсель и др.), которые едва ли когда-нибудь впоследствии мне пришлось бы посетить. И самое важное — это то, что война помогла мне глубже и детальнее познать характер людей во время войны, обнажила их нутро и произвела переоценку ценностей, возможную только в условиях военного времени.
1. ГАУО. Ф. Р-4217. Оп. 1. Д. 2. Авторизированная машинописная рукопись.
Список литературы Симбирские страницы Первой мировой: Государственный архив Ульяновской области к 100-летию начала Первой мировой войны
- ГАУО. Ф. Р-4217. Оп. 1. Д. 2. Авторизированная машинописная рукопись