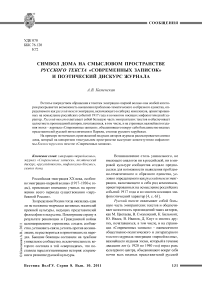Символ дома на смысловом пространстве русского текста «Современных записок» и поэтический дискурс журнала
Бесплатный доступ
В статье посредством обращения к текстам эмиграции «первой волны» как особой категории раскрывается возможность выявления проблемно-тематического и образного единства, определяемого как русский текст эмиграции, включающего в себя ряд комплексов, ориентированных на осмысление российских событий 1917 года и во многом носящих мифопоэтический характер. Русский текст охватывает собой большую часть эмигрантских текстов и обеспечивает целостность произведений авторов, печатавшихся, в том числе, и на страницах важнейшего издания эпохи - журнала «Современные записки», объединившего вокруг себя большинство видных представителей русской интеллигенции в Париже, столице русского зарубежья. На примере поэтических произведений ведущих авторов журнала рассматривается символ дома, который на конкретном текстуальном пространстве выступает конституэнтом мифологемы Космос в русском тексте «Современных записок».
Эмиграция "первой волны", журнал "современные записки", поэтический дискурс, "русский текст", мифологема "космос", символ дома
Короткий адрес: https://sciup.org/14975214
IDR: 14975214 | УДК: 070
Текст научной статьи Символ дома на смысловом пространстве русского текста «Современных записок» и поэтический дискурс журнала
Российская эмиграция XX века, особенно эмиграция «первой волны» (1917–1930-е годы), привлекает внимание ученых на протяжении всего периода существования «зарубежной России».
За пределами России тогда оказалась едва ли не половина творчески активных носителей прежней культуры, ведущих представителей философии и искусства. Покинувшие страну в результате революции и Гражданской войны целенаправленно стремились создать сообщество, установить связи, устоять против ассимиляции, не раствориться в приютивших их народах. Бывшие беженцы составили на чужбине уникальное сообщество, исключительность которого состояла в той «сверхзадаче», что поставила перед изгнанниками история: сохранение и развитие русской культуры.
Возникновение столь уникального, не имеющего аналогов ни в российской, ни в мировой культуре сообщества создало предпосылки для возможности выявления проблемно-тематического и образного единства, условно определяемого как русский текст эмиграции, включающего в себя ряд комплексов, ориентированных на осмысление российских событий 1917 года и во многом носящих мифопоэтический характер [4, с. 63].
Русский текст охватывает собой большую часть эмигрантских текстов и обеспечивает целостность произведений таких авторов, как М. Цветаева, В. Смоленский, К. Бальмонт, Ю. Иваск, В. Иванов, Д. Кнут и многих других, печатавшихся, в том числе, и на страницах «Современных записок» – ежемесячного общественно-политического и литературного толстого журнала эмиграции «первой волны», важнейшего издания эпохи, который в течение двадцати лет (с 1920 по 1940 год) играл роль культурного центра, объединявшего вокруг себя почти всех видных представителей русской интеллигенции в Париже, культурной столице русских изгнанников.
Георгий Адамович в книге «Одиночество и свобода» говорит: «Вокруг был Запад, в частности Париж, блестящий и безразличный, с общим уровнем области творчества до сих пор еще, после непрерывного четырехсотлетнего цветения, настолько высоким, что он и манил, и отпугивал, да и таил он в себе какую-то сухость и холодок, глубоко чуждые всему русскому...» [1, с. 46]. В связи с этим Елена Менегальдо, дочь русских эмигрантов первой волны, удачно подмечает: «Во Франции, где русские беженцы находят в конце концов пристанище и распаковывают свои чемоданы, их дома зачастую превращаются в “музеи былой Руси”» [3, с. 58] .
Переходные эпохи всегда характеризуются актуализацией оппозиции дом – дорога . Архетип дома выступает в качестве некоего ностальгического комплекса, обусловленного реализацией потребности в утраченном чувстве дома как символа стабильности.
По мысли Н. Хренова, дом – это некое исключающее хаос сакральное пространство, символ включенности человека в пространство и связи с ним, являющийся одним из значимых элементов традиционной и архаической картины мира (к примеру, для ориентации архаического человека в пространстве дом является определяющим элементом). Дом выступает свидетельством сотворенного пространства, преобразования природы в культуру, а его возникновение в архаической культуре придает миру пространственный смысл, так как именно с помощью возведения дома мир становится организованным, упорядоченным [5, с. 284]. А.К. Байбурин полагает, что с появлением дома мир приобретает черты пространственной организации, а в пространстве появляется универсальная, помогающая упорядочить пространство вне дома точка отсчета [2, с. 10].
Поведение человека в доме регламентируется нормами, а поведение человека в дороге не предполагает нормы. То есть если все, что связано с домом, репрезентирует Космос, то все, что связано с дорогой, оказывается экспликацией всего неупорядоченного, ненормированного – Хаоса [5, с. 285].
Репрезентируя Центр мироздания, дом становится некоей сакральной точкой. «Од- нако, – полагает исследователь, – недостаточно превратить пространство в космос, нужно, чтобы оно своего сакрального смысла не утрачивало. Если что-то происходит с центром сакрального пространства, то рушится и весь космос, а следовательно, в пространство вторгается хаос, разрушая его. Наступает переживаемая “концом света” катастрофа. Но именно это переживание и характерно для переходных эпох. Особая значимость центра мира объясняется тем, что самая сакральная точка пространства – это точка, где земное пространство соприкасается с небесным пространством, которое и является средоточием сакрального. Там, где утрачивается власть сакрального, происходит контакт не с небом, а с преисподней» [там же, с. 297].
Примерами средоточия сакрального пространства могут служить гора, храм, город, лестница или дом .
Дом выступает организованным, а потому сакральным пространством, точнее – центральной точкой такого пространства, соотносимой с Космосом и противопоставляемой Хаосу. Очевидно, что стремление культивировать ценности дома означает стремление не утратить связи с сакральным пространством и избежать контакта с хаосом [там же, с. 298]. По мысли А. Млечко, помимо актуализации оппозиции дом – дорога символ дома, выступая одним из основных конституентов оппозиции Космос – Хаос, является разграничителем своего и чужого (сакрального – профанного) , а глубокая культурная укорененность и конно-тационное богатство символа дома позволяют говорить о достижении им статуса мифологемы [4, с. 150].
Одним из крупнейших эмигрантских поэтов, в творчестве которого необыкновенно отчетливо была проартикулирована символика дома, была М. Цветаева. В 1938 году она пишет Анне Тесковой: «Я – страшно одинока. Из всего Парижа – только два дома, где я бываю» [6, с. 472]. Об этом же – в другом письме (тому же адресату): «Вокруг – угроза войны и революции, вообще – катастрофических событий. Жить мне... здесь не за что. Эмиграция меня не любит... Но Москва превращена в Нью-Йорк: идеологический Нью-Йорк – ни пустырей, ни бугров – асфальтовые озера с рупорами громкоговорителей и колоссальными рекламами» [6, с. 433]. Родина Цветаевой стала ей чужой. Единственное, что осталось поэту, – это вспоминать ее Россию, ее Москву и ее дом. То есть воссоздавать те картины, которые с детства живут в глубинах памяти.
Так, в «Современных записках» появляются два стихотворения Цветаевой под названием «Дом».
Цветаевский дом всегда был островком высокой культуры, где господствовала гармония разума и чувств. Отец и мать являли собой союз достойных людей, миссией которых было утверждать высшие ценности мировой культуры. Фундаментом дома служили труд, порядочность, долг, бескорыстие, самоотдача. Из него изгонялись лень, эгоизм, своеволие, слабоволие. К нему вполне применима оценка, данная Цветаевой дому Иловайских: он «был исполнен благородства. Ничего мелкого в нем не было» [7, с. 123].
Спустя много лет эмигрантка Цветаева, отождествляя дом с душой, воссоздает его образ в одноименном произведении «Дом» («Из-под нахмуренных бровей...»). Между домом в Трехпрудном переулке, домом ее души, и домом временным, эмигрантским, лежит громадная пропасть. Подчеркивая контрастность ощущений, о доме души она говорит: «Дом – будто юности моей // День, будто молодость моя» (Современные записки. 1933. № 51. С. 186), а временное пристанище описывает как «трущобы в непросыхающей грязи». Поэт боится, что, так и не увидев вновь родного дома, ее жизнь закончится вдали от него: «От улицы вдали // Я за стихами кончу дни – // Как за ветвями бузины» (там же. С. 187). Но ее дом (как и ее душа!) не поддастся никаким внешним обстоятельствам, выживет, несмотря на все происходящие катаклизмы: «Не сдавшиеся злобе дня // Глаза, оставшиеся – да! – // Зерцалами самих себя». Описывая островок души как «Дом – пережиток, дом – магнат, // Скрывающийся между лип», Цветаева признается, что это «девический дагерротип» ее души (там же).
В одноименном стихотворении «Дом» («Лопушиный, ромашный...»), опубликованном спустя три года после издания первого, поэт рисует совершенно другой образ. В противо- вес горечи и любви, с которыми автор возрождает райский уголок своей души в рассмотренном выше стихотворении, здесь перед нами возникает дом «так мало домашний», который «к городу задом // Встал, а передом – к лесу» (Современные записки. 1936. № 61. С. 165).
Оппозиция город – лес весьма значима, так как город традиционно воплощает центр мира, является мировой горой, олицетворением мировой оси, местом входа на небо, под землю и в преисподнюю. Название Вавилона (от Babilani – «ворота богов») отражает представление о том, что именно здесь боги спускались с неба на землю. Кроме того, считается, что закладка и обустройство города осуществляется не в произвольном порядке и не в соответствии с сугубо утилитарными требованиями, но подчиняются определенной сакральной идее, становясь таким образом символом этой идеи.
Символика леса связана с оппозицией Хаос – Космос , принимающей вид «природа – культура». Лес считается частью первозданного хаоса материи, связывается со стихией земли, является местопребыванием животной и растительной жизни, не подчиняющейся человеку. Он противопоставляется городу и дому как пространству цивилизации.
В этом цветаевском доме, повернутом к лесу, есть окна, из которых «души во все очи глядят». Окна поэт сравнивает с иконами, лица – с руинами и аренами и подчеркивает, что в этом доме идет «бой за су-ще-ство-ванье». «Так и ночью и днем // Всех рубах рукавами // со смертью борется дом» (там же. С. 166). Автор акцентирует временность и ненадежность эмигрантского существования: «Не рассевшийся сиднем // И не пахнущий сдобным. // За жкоторый не стыдно // Перед злым и бездомным. // Не стыдятся же башен // Птицы, ночь переспав… // Дом, который не страшен // В час народных расправ» (там же).
Символ дома мы также находим в первой части стихотворного цикла А. Штейгера «Бессарабия» («Две барышни в отрытом шарабане...»), где поэт рисует декорации минувшего века: «Дворянский дом на склоне у реки, // Студент с начала самого «вакаций», // Фрук- товый сад, покосы, мужики...» (Современные записки. 1940. № 70. С. 129).
Цикл был написан в именье (селе) Не-поротово, где Штейгер довольно продолжительное время гостил у дворян Статевичей. В 1920–1930-е годы Бессарабия хранила черты русского мира, и встреча с ней для Штейгера воспринималась практически как встреча с реальной родиной – настолько сильно чудом сохранившийся быт бывшей губернии Российской империи напоминал о традициях дореволюционной родины. В декорации прошлого столетия вписываются и барышни в открытом шарабане, и двое панычей, следующих верхом за ними, – «все как в наивнобытовом романе, // Минувший век до самых мелочей...» (там же).
Но и дворянский дом, и прочие декорации России ушедшего века отражают «скрытую подделку» и обнажают страх, что «двинется сейчас по циферблату роковая стрелка...» (там же).
О доме, схожем с оставшимся на родине очагом, говорит Ю. Мандельштам в стихотворении «Ну что мне в том, что ветряная мельница...». Автор говорит о явившемся во сне похожем на его «чужом домике», вблизи которого «рыдая надрывается гармоника» (там же. 1937. № 63. С. 163), а на пригорке стоит ветряная мельница. Но лейтмотивом звучат слова: «Ведь все равно ничто не переменится // Здесь, на чужбине, и в моей стране». Поэт сокрушается: «Я все равно не возвращусь домой» (там же). Остро ощущая изгнание, тяготясь бездействием, храня надежды и воспоминания и накапливая в душе раскаянье и грусть, автор задается вопросом: «Но отчего неизъяснимо-русское, // Мучительно-родное бытие // Мне иногда напоминает узкое, // Смертельно ранящее лезвие?» (там же. С. 164).
Символ дома встречаем и у А. Ладинс-кого в стихотворении «Труды людей, и предприятья пчел...». Автор проводит аналогию между занятиями пчел и людей: «Труды людей, и предприятья пчел, // И геометрия пчелиных сот... // Постройка дома, прилежанье школ, // Пшеничные амбары, воск и мед...» (там же. 1936. № 61. С. 160).
Поэт говорит о значимости обычных трудовых будней русского человека ушедшей страны (опять же, в параллели с пчелой): «Прекрасно это – строить прочный дом, // Пшеницу насыпать в большой амбар, // Хозяйственной пчелою над цветком // Трудиться, хлопотать в полдневный жар» (Современные записки. 1936. № 61. С. 160).
На фоне подобных «настоящих» трудов – постройки прочного дома и заготовки пшеницы (значимых символов ушедшей страны) – особенно фиктивно выглядит все то, в чем пользы нет – фейерверк, дым, платье в мишуре балов (все то, в чем утопает эмиграция).
Таким образом, рассмотрев символ дома (как некое исключающее хаос сакральное пространство), эксплицируемый в поэзии авторов журнала, в частности М. Цветаевой, А. Штейгера, Ю. Мандельштама, А. Ладин-ского, можно заключить, что, обратившись к понятию текста как особой категории, мы имеем право говорить о наличии мифологемы Космос в поэзии авторов журнала в русском тексте «Современных записок».
Список литературы Символ дома на смысловом пространстве русского текста «Современных записок» и поэтический дискурс журнала
- Адамович, Г. Одиночество и свобода/Г. Адамович//Одиночество и свобода: очерки/Г. Адамович. -СПб.: Азбука-классика, 2006. -С. 20-51.
- Байбурин, А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян/А. К. Байбурин. -Л.: Наука, 1983. -192 с.
- Менегальдо, Е. Русские в Париже. 1919-1939/Е. Менегальдо. -2-е изд., доп. рис. Алексея Ремизова «Из Достоевского». -М.: Кстати, 2007. -288 с.
- Млечко, А. В. От текста к тексту. Символы и мифы «Современных записок» (1920-1940)/А. В. Млечко. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. -574 с.
- Хренов, Н. А. Культура в эпоху социального хаоса/Н. А. Хренов. -М.: Едиториал УРСС, 2002. -448 с.
- Цветаева, М. Письма/М. Цветаева//Собр. соч.: в 7 т./М. И. Цветаева. -М.: Эллис Лак, 1995. -Т. 6. -800 с.
- Цветаева, М. И. Дом у старого Пимена/М. И. Цветаева//Автобиографическая проза. Дневниковые записи. Воспоминания о современниках. Эссе. Письма/М. Цветаева. -Екатеринбург: У-Фактория, 2003. -768 с.