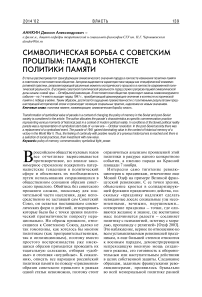Символическая борьба с советским прошлым: парад в контексте политики памяти
Автор: Аникин Даниил Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается трансформация символического значения парада в контексте изменения политики памяти в советском и постсоветском обществе. Автором выделяются характеристики парада как специфической коммеморативной практики, репрезентирующей различные моменты исторического прошлого в контексте современной политической реальности. В условиях советской политической реальности парад служил репрезентацией символической даты начала «новой эры» - Октябрьской революции. В постсоветском обществе происходит замена символизируемого события - на 1-е место выходит парад 1941 г., приобретающий доминирующее значение в контексте исторической памяти о победе в войне. Таким образом, достигается ощущение преемственности с позитивными результатами предшествующей исторической эпохи и происходит селекция социальных практик, наделение их новым значением.
Политика памяти, коммеморация, символическая борьба, власть
Короткий адрес: https://sciup.org/170167332
IDR: 170167332
Текст научной статьи Символическая борьба с советским прошлым: парад в контексте политики памяти
Вроссийском обществе нулевых годов все отчетливее вырисовывается противоречивое, но вполне закономерное стремление подкрепить патерналистские тенденции в политической сфере и обосновать их необходимость путем использования сохраняющихся в общественном сознании образов советского прошлого. Обойтись без советского прошлого сложно, поскольку для значительной части населения, даже непосредственно не заставшей сам Советский Союз, он остается поставщиком символических форм и действий, игнорировать которые было бы с точки зрения политической прагматичности попросту нерационально. Но образы прошлого, относящиеся к Советскому Союзу, далеко не так гомогенны, как хотелось бы многим политикам (как проправительственным, так и оппозиционным), поэтому вместо простого воспроизводства уже имеющихся образов приходится проводить их тщательную селекцию, отбирая «удобные» и отсеивая «неудобные». К сожалению, описать все вариации российской политики памяти по поводу «присвоения» образов советского прошлого в рамках одной статьи невозможно, поэтому стоит ограничиться анализом проявлений этой политики в ракурсе одного конкретного события, а именно парада на Красной площади 7 ноября.
Интересно само тяготение революционеров к праздникам, отмеченное еще Моной Озуф на примере Великой французской революции. С ее точки зрения, объяснение кроется в солидаризирую-щей функции праздничного действа, поскольку «празднику надлежит сделать невиданные доселе социальные узы несомненными, вечными, нерушимыми… сотворение праздника – точки, где сливаются желание и знание, где воспитание масс подчиняется радости – соединяет политику с психологией, эстетику с моралью, пропаганду с религией» [Озуф 2003]. Это наблюдение, верное по отношению ко всем устанавливаемым революцией праздникам, в еще большей степени относится к военным парадам, демонстрирующим непреходящую военную мощь созданного режима, его готовность к оборонительным или наступательным действиям в целях собственной защиты. Следование образцам, заданным французскими революционерами, проявилось буквально во всей мемориальной политике ранней советской власти, что отмечается многими исследователями [Барышева 2011: 123-131].
В связи с этим неудивительным представляется пристальное внимание, уделенное советскими вождями установлению череды революционных праздников, из которых одно из наиболее почетных мест заняла дата 7 ноября. Этот день (он же 25 октября по старому стилю) явился днем начала вооруженного восстания в Петрограде, которое и привело к власти представителей партии большевиков. Уже в 1918 г. эта дата становится государственным праздником – Днем Великой Октябрьской социалистической революции, приобретая при этом характер замечательного политического оксюморона (октябрьская революция, годовщина которой отмечается в ноябре). 7 и 8 ноября были объявлены нерабочими днями, а напоминанием о революционных событиях 1917 г. стал военный парад, который впервые прошел как раз 7 ноября 1918 г. [Шаповалов 2010а: 288-294].
В 20-е–30-е гг. политика памяти Советского государства в значительной степени и состояла в замене существовавших до революции праздников их советскими аналогами. При этом постоянному воспроизводству памяти об Октябрьской революции уделялось особое внимание. Наряду с культурно-просветительскими мероприятиями, нацеленными на передачу вербальной информации, в праздничную практику советского строя оказались включеными в обязательном порядке демонстрации и военные парады [Бравина 2010: 51-59]. Постепенно была выработана структура парада, которая обязательно включала в себя присутствие вождей на трибуне Мавзолея, демонстрацию трудящихся и – как кульминацию – военный парад, ради проведения которого (точнее говоря, ради удобного размещения войск и военной техники), была произведена реконструкция подъездов к Красной площади.
Каждый парад 7 ноября символически возвращал его зрителей и участников к событиям 1917 г., являясь, по сути, комме-морацией (в терминологии П. Нора) [Нора 1999: 95-150]. Коммеморация – актуализация определенного «места памяти», событие, ценное не само по себе, а в силу своей отсылки к определенному историческому факту. Таким образом, и парад имел зна- чимость только в историческом контексте – пока имело актуальный политический характер то событие, к которому он обращался.
В таком ракурсе парад 7 ноября 1941 г. выполнял вполне определенную коммеморативную функцию. Во-первых, он являлся первым государственным праздником, отмечавшимся страной после начала Великой Отечественной войны [Шаповалов 2010б: 206-209]. А во-вторых, он должен был символически подчеркнуть актуальную значимость установленного в результате революции нового политического порядка, подчеркнуть его незыблемость и поднять тем самым боевой дух жителей Москвы, да и всего Советского Союза. По воспоминаниям очевидцев, символическое значение парада было крайне велико – он продемонстрировал не только наличие в Москве правительства во главе с И.В. Сталиным, которое, согласно слухам, давно уже перебралось в Куйбышев, но и поднял боевой дух защитников Москвы и неэвакуированных жителей. «После парада произошел перелом в разговорах и настроениях. 7 ноября и в последующие дни народ стал совсем иным: появилась особая твердость и уверенность...» [Парад… 1985: 527].
Вместе с тем в рамках советского политического дискурса парад 1941 г. не обладал самостоятельным символическим значением – он лишь воспроизводил революцию 1917 г., поэтому, даже заслужив отдельное упоминание в энциклопедиях, он так и остался одной из многочисленных коммемораций Великой Октябрьской социалистической революции. В 60-х–70-х гг. происходит партикуляризация как самого праздника, так и являющегося его неотъемлемым элементом военного парада – он встраивается в структуру ритуалов частной жизни. В частности, неизменным атрибутом празднования Дня Октябрьской революции (наряду с обязательным застольем) становится просмотр трансляции военного парада по телевидению.
Изменение политической ситуации в стране повлекло трансформацию и символического дискурса – уже в 1992 г. 8 ноября стало рабочим днем, а в 1995 г. этот праздник получил новое название, став Днем проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годов- щины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). Отметим, что в названии праздника была сохранена отсылка и к революционным событиям, но акцент был смещен уже на 7 ноября именно как на годовщину парада на Красной площади 1941 г.
Впрочем, новое название продержалось всего год, и уже в 1996 г. президент РФ Б.Н. Ельцин своим указом переименовал 7 ноября в День согласия и примирения1. При этом революционный смысл празднования 7 ноября, сохранявшийся в общественном сознании и активно используемый КПРФ в своих митингах и шествиях, исключался официальной властью из политики памяти. Военный парад был сохранен только 9 мая, а ноябрьский праздник, не снабженный соответственным символическим содержанием и практическим воплощением, по сути, оказался отданным на откуп оппозиционным партиям.
Кардинальный поворот в официальной политике памяти был связан с постепенным укреплением вертикали власти и переключением внимания с советского прошлого на более отдаленные исторические аллюзии в интересах укрепляющегося неоимперского официоза. Смещению акцентов по отношению к 7 ноября должно было служить введение нового государственного праздника – Дня народного единства (4 ноября), которое было официально объявлено в 2004 г.2
В условиях серьезных затруднений в проводимой государством политике памяти становится насущным вопрос не о замене этого события другим, символически более значимым, а о смене коннотаций даты 7 ноября на более приемлемые для политической власти. Именно с этим можно связать стремление отметить 70-летие парада на Красной площади 7 ноября 1941 г. максимально помпезно, с воссозданием исторической достоверности и подчеркиванием значимости этой даты исключительно в контексте победы в Великой Отечественной войне, а не в связи с революционными событиями 1917 г. Таким образом, наблюдается крайне любопытная символическая подмена – событие, являвшееся по своей сути коммеморацией, само становится источником для коммемораций, приобретая тем самым самостоятельное значение.
Суть этой подмены заключается в стремлении сфокусировать общественное внимание на параде 1941 г. в противовес революции 1917 г. В выступлениях политических деятелей и в официальных комментариях, сопровождавших историческую реконструкцию парада 1941 г. в 2011 г., подчеркивается значимость этой даты, но только в связи с битвой под Москвой, положившей начало разгрому захватчиков. Французская газета AFP цитирует в связи с этим президента РФ Д.А. Медведева, заявившего, что «тогда страна осознала, что может преодолеть худшие испытания и победить страшного врага, который планировал устроить собственный парад на Красной площади» [Russia remembers… 2011]. Даже перестав быть государственным праздником, дата Великой Октябрьской социалистической революции продолжает обладать крайне взрывоопасным символическим потенциалом, который нуждается в «присвоении», тщательной обработке и использовании в государственной политике памяти.
Таким образом, можно обозначить те результаты, к которым приводит трансформация коммеморативных практик, касающихся парада 7 ноября, в современном российском обществе:
-
1) память о Великой Отечественной войне «изымается» у представителей Коммунистической партии, превращаясь в «общенародное достояние», а, по сути, – становясь предметом символических манипуляций со стороны власти;
-
2) за счет переноса символического значения с самого события 7 ноября 1917 г. на его коммеморацию (парад 7 ноября 1941 г.) достигается блокирование ненужных политических коннотаций с революционным прошлым;
-
3) сохраняется осознание исторической преемственности между советским прошлым и современным российским обществом, легитимируя патерналистские тенденции в политической сфере за счет эффекта «исторической ностальгии».
Восстановление советского прошлого посредством определенных коммеморативных практик вполне вписывается в тот своеобразный синтез прошлого и будущего, который И. Калинин называет «ностальгической модернизацией»
[Калинин 2011: 11]. В случае такой модели развития социокультурный потенциал для изменений не изыскивается за счет привлечения дополнительных (внешних) ресурсов, а возникает в результате реконструкции соответствующих исторических оснований. Такой «интенсивный» (в противовес «экстенсивному») путь развития подразумевает использование и активное «переозначивание» уже имеющихся образов прошлого, их конвертацию в современный политический дискурс. «Ресурсность» подобного мышления, исходящего из презумпции ограниченности символов и образов прошлого, должна рассматриваться в ракурсе современных тенденций обращения к прошлому, которые можно условно назвать консумерист-скими. В условиях распространения тенденций потребления на все сферы жизни (как материальной, так и духовной), воспоминания о прошлом становятся товаром, ценность которого определяется его востребованностью на мировом или локальных рынках, а также способностью выступать источником достижения консенсуса во внутриполитических и внешнеполитических отношениях [Аникин
2013: 282-288]. В связи с этим особенность российского способа символического «присвоения» прошлого заключается не в его «ресурсности» как таковой, а в специфическом понимании ресурса исторических образов как ограниченного, невосполнимого и, соответственно, нуждающегося в сохранении и обеспечении неприкосновенности.
Вместе с тем необходимо учитывать, что политика памяти в современной России в значительной степени непоследовательна, поэтому анализ отдельной тенденции не способен дать целостное представление о специфике связей российского общества с его историческими контекстами. Изучение политики памяти должно сопровождаться и выявлением определенных культур и субкультур памяти, без учета которых комплексный анализ ситуации в России окажется невозможным.
Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 14-33-01237 а2 «Трансформация исторического сознания молодежи в обществе риска: источники, механизмы, закономерности, перспективы».