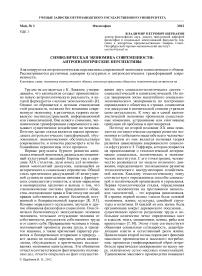Символическая экономика современности: антропологические перспективы
Автор: Щербаков Владимир Петрович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (124), 2012 года.
Бесплатный доступ
Анализируются антропологические перспективы современной экономики символического обмена. Рассматриваются различные сценарии культурных и антропологических трансформаций современности.
Экономика символического обмена, постиндустриальное общество, экономическая антропология
Короткий адрес: https://sciup.org/14750138
IDR: 14750138 | УДК: 1
Текст научной статьи Символическая экономика современности: антропологические перспективы
Трудно не согласиться с К. Лавалем, утверждавшим, что капитализм создает принципиально новую антропологическую реальность, в которой формируется «человек экономический» [4]. Однако он обращается к истокам становления этой реальности, оставляя без внимания современную экономику, в различных теориях называемую постиндустриальной, информационной или символической. Вне всякого сомнения, экономические трансформации современности оказывают существенное воздействие на человека. Поэтому целью статьи является анализ происходящих антропологических трансформаций, обусловленных экономическими обстоятельствами современности, и попытка рассмотреть хотя бы ближайшие перспективы этого процесса.
Первые результаты бурного развития капиталистической экономики, радикально изменившей культурный ландшафт Европы уже к середине XIX столетия, дали повод для возникновения многолетней дискуссии, касающейся ее исторических и социальных перспектив. Общий стиль критических рассуждений об антигуманной сущности капитализма начиная с французских социалистов-утопистов, а затем марксизма и неомарксизма заключен в выводе о том, что «экономические системы гражданского общества, подчиняющие права и благополучие людей правам собственности, имеют безличный, негуманный и безнравственный характер» [8; 315]. Помимо морального осуждения, звучали и другие обвинения философов и социологов. Они отмечали бесчеловечную эксплуатацию человека человеком, тотальное отчуждение человека от собственности, результатов собственного труда и от самого себя. Превращение человека в товар, подчиненный произволу рынка труда, и придаток машины, а также кризисный характер развития и бесцеремонное вторжение в природу – вот далеко не полный перечень грехов капитализма, обсуждаемых в критических исследованиях экономики капитализма. Эти обвинения отчасти соответствовали фактическому положению дел, отчасти опирались на факт сосущество- вания двух социально-политических систем – социалистической и капиталистической. Но после завершения эпохи масштабного социальноэкономического эксперимента по построению справедливого общества в странах социализма эти дискуссии в значительной степени утратили свою актуальность. К тому же в самой капиталистической экономике произошли существенные изменения, устранившие или смягчившие присущие ей проблемы и противоречия.
Поэтому во второй половине ХХ века появляются оптимистические сценарии развития экономики в глобальном масштабе всего человечества. Одним из них является волновая теория развития цивилизации американского социолога и футуролога Э. Тоффлера, которая опирается на предположение о технологической детерминации социальных, политических и экономических институтов. С его точки зрения, человечество развивается по модели волнового движения, определяющего эволюционное развитие технологического инструментария хозяйственной жизни. Каждому технологическому этапу соответствуют определенные способы социальной и политической организации и управления. Первая технологическая стадия, определявшая жизнь человечества на протяжении нескольких тысячелетий, – это аграрная цивилизация. В странах первой волны «земля была основой экономики, жизни, культуры, семейной структуры и политики. В каждой из них жизнь была организована вокруг деревенского поселения… существовало простое разделение труда и небольшое количество четко определенных каст и классов: знать, священники, воины, рабы или крепостные» [7; 30]. Этому этапу соответствуют общинная социальная солидарность, децентрализация власти и естественный ритм жизни. Цивилизация второй волны порождает феномен массового производства и массового потребления, производя унифицированный образ потребителя практически одновременно по всему миру, охваченному сетью массовых коммуникаций. Удешевление массового производства повышает стандарты потребления, что еще больше раскручивает механизм поглощения невозобновляемых ресурсов – сырья и топлива, исчерпание которых – дело ближайшего будущего. В современной России этот процесс безудержного потребления только начинается, отдаляя нас от провозглашаемой американским футурологом третьей волны – постиндустриальной информационной цивилизации, которая должна быть организована на принципах, делающих ее похожей скорее на общество первой волны.
Но что же делает возможным этот радикальный поворот? Ответ Тоффлера вновь в русле технологического детерминизма. Прежняя система сверхцентрализованного массового производства достигла предела. Люди не справляются с нагрузкой индустриального ритма жизни и бесчеловечной организации производства. И вот в этой критической ситуации приближающейся дезорганизации жизни появляется спасительное средство – компьютер, с помощью которого можно построить новый мир, лишенный недостатков предыдущего.
В отличие от бюрократической машины второй волны, разрешившей классовый конфликт предпринимателей и рабочих в свою пользу, компьютер, по мысли Тоффлера, создает новую систему коммуникации и управления, которая способна полностью изменить систему организации производства и общества. Выполняя функцию интеграции разрозненных фрагментов информации, он способен управлять бесконечно сложными социальными и технологическими процессами, оставив человеку решение творческих задач. Помимо этого, посредством распространения компьютерных сетей и систем телекоммуникации изменяются принципы синхронизации, концентрации и специализации. Уже сегодня мы можем наблюдать значительные изменения восприятия времени. Так, после введения свободного графика немецкая пунктуальность превратилась в очередной миф. Всеобщее распространение мобильной связи заметно снизило пунктуальность обладателей мобильных телефонов во всем мире. Люди стали значительно чаще опаздывать на встречи и даже отменять их, получив возможность предупредить об этом.
На наших глазах произошло предсказанное Тоффлером исчезновение профессии секретаря-машинистки и сокращение числа офисных работников, поскольку значительная часть работы выполняется компьютером. Все большая часть людей предпочитают свободный график работы и включаются в систему производства для себя, приближая идеал «электронного коттеджа», включенного в систему коммуникаций и позволяющего человеку работать, не выходя из дома. Несомненно, возвращение рабочего места в пространство дома представляется заманчивой перспективой для человека, измотанного работой и транспортными проблемами. Но трудно согласиться с тем, что это может повлиять на современные тенденции разрушения семьи как ячейки общества, изменить структуру домашнего хозяйства и организовать его на принципах сотрудничества и взаимопонимания. Возвращение к доиндустриальному способу организации труда, даже с использованием компьютерной техники, представляется маловероятным.
Действительно, сегодня проблема нетоварного производства для себя широко обсуждается экономистами и социологами [10]. Классические экономические модели прежде не учитывали этого сектора экономики, который везде, и особенно в развивающихся странах, достаточно велик. В этот сектор входит разнообразная домашняя работа, которая по традиции в основном достается женщинам, значительно увеличивая их рабочий день. Но ни уборка дома, ни приготовление пищи, ни воспитание детей никем не оплачиваются. Получается, что один из самых важных секторов производства – воспроизводство рабочей силы – выпадает из капиталистической экономики.
Серьезные изменения намечаются в системе рынка, который становится менее заметной и значимой сферой экономики. Значительная часть торговли может осуществляться в форме электронного заказа, что позволяет напрямую связать производителя и потребителя и даже непосредственно подключить последнего к производству требуемого товара путем программирования его характеристик. На значительное изменение поведения потребителя указывают маркетинговые исследования, которые говорят о том, что оно стало непредсказуемым и неуправляемым [9; 16]. Потребитель теперь хорошо осведомлен о правилах игры и не всегда желает им подчиняться. Однако возможности его ограничены, и он все больше втягивается в маркетинговые стратегии сотрудничества. Покупателю предлагается самому забрать свой товар со склада, собрать мебель или даже автомобиль, загрузить продуктами тележку в супермаркете с системой самообслуживания. На эту работу у него уходит все больше свободного времени, которое, как мы знаем, имеет большое значение для сохранения структуры личности современного человека. Снижение предпринимательского потенциала, дефицит инициативных и креативных менеджеров уже сейчас сказывается на состоянии экономики.
Постепенное исчезновение экономически активного типа личности связано не только с изменениями образа жизни и традициями семейного воспитания. Как продемонстрировал канадский «пророк» электронной эры М. Маклюэн, происходящие изменения в средствах коммуникации значительно изменяют восприятие и сознание современного человека. На смену книге, газете и журналу, которые были ориентированы на индивидуальное визуальное восприятие и последовательное осмысление, приходят средства массовой коммуникации. В начале прошлого века это радио, в середине – телевидение, а сегодня – Интернет. В результате мир вплотную приблизился к состоянию «глобальной деревни», в которой информация распространяется практически мгновенно [5], [6]. С одной стороны, это может показаться привлекательной перспективой для нынешнего расколотого цивилизационными противоречиями мира. Но языковые и культурные различия не позволяют реализовать эту надежду. Социальные интернет-сообщества остаются локальными и неохотно выходят за национальные границы.
Бесконечный поток информации, получаемый с огромной скоростью и из разных источников, предполагает поверхностное, беглое восприятие и фрагментарный образ мышления. Преобладание аудиовизуальных образов, которые воспринимаются иначе, чем неподвижный текст, приводит к формированию так называемого клипового мышления, составленного из отдельных фрагментов, связь между которыми зачастую случайна. В результате меняются стратегии поведения, они становятся ситуационными и не предполагают построения развернутого плана действий. Популярные сегодня флэш-мобы являются хорошим примером такого единичного события, у которого, как правило, нет предыстории и продолжения. Договорившись накануне с помощью Интернета, прежде незнакомые люди встречаются в условленном месте, одновременно совершают какое-нибудь действие и тут же расходятся. Спонтанность и непредсказуемость становятся характерными признаками современного стиля жизни. Однако это приводит к разрыву коммуникации между поколениями и еще больше разрушает социальную ткань отношений между людьми.
Наиболее яркая и проблематичная модель наступающего будущего предлагается в концепции «символической экономики» Ж. Бодрийяра [1], [2]. Соглашаясь с информационным характером современности, он обращает внимание на семиотические инновации, произошедшие в системе массового производства и потребления. Общество потребления становится для французского мыслителя объектом беспощадной критики, поскольку в нем сосредоточены, по его мнению, все грехи современной цивилизации. Острие этой критики направлено против симуляции – превращения реальности в знак. Современная экономика для него – это экономика симулякров – подделок реальности, которые выдают себя за реальность. Понять, что такое симулякр, легко на примере широко распространенной в современном массовом производстве практики имитации. Имитируются икра и крабовое мясо. Они изготавливаются из дешевой рыбы, но выглядят почти как настоящие. Мебель, сделанная из отходов производства, покрыта слоем пластика, повторяющего цвет и структуру дорогой древесины. Дома, сделанные в основном из пенопласта и пластика, производят впечатление родовых поместий. Распространение контрафактной продукции в индустрии одежды стало глобальной мировой проблемой. Но именно в этом случае становится понятным масштаб «экономики знаков». Даже в экономически благополучных странах люди предпочитают покупать подделки дорогих торговых марок одежды, понимая, что можно закрыть глаза на незначительную потерю качества. Ведь выигрыш в цене многократный. Эта разница и составляет стоимость пустого товарного знака, который, по мысли Бодрийяра, уже давно не связан с подлинными качествами обозначаемой вещи. Он является частью виртуальной реальности, которая состоит из знаков, связанных только между собой. Циркуляция пустых знаков и составляет суть виртуальной экономики, которая существует только в воображении, поскольку не нуждается ни в каком материальном носителе.
Виртуализация экономики стала спасительным выходом в ситуации конфликта производителя и потребителя, которые до середины прошлого века были ориентированы на несовместимые цели. Производитель стремился произвести как можно больше, а потребитель следовал стратегии бережливости, ориентируясь на прочность и долговечность вещи. Многие такие вещи до сих пор встречаются и практически не утратили своих потребительских качеств, но морально устарели, в отличие от современных поделок, которые ломаются и приходят в негодность значительно раньше гарантированного срока службы.
Почему же люди соглашаются участвовать в этой странной игре? Ведь совсем недавно их предки были ориентированы на другую систему вещей, следуя девизу «мой дом – моя крепость» и передавая вещи по наследству. Но сегодня такая стратегия обладания вещами доступна очень немногим людям высших экономических и политических классов, утверждающих свое превосходство в «вечных» вещах. Они покупают средневековые замки и дворцы разорившейся аристократии. Коллекционируют вечные образцы искусства и дорогие автомобили, формируя реальный символический капитал траты. Они не потребляют, а владеют. Всем остальным достается участь массового потребителя доступных вещей. Эта масса и втягивается в систему виртуальной экономики, которая предлагает возможность обрести иллюзию сопричастности к недостижимым ценностям обладания статусными вещами [1], [2]. Посредством рекламы об- разы идеальных вещей становятся общедоступными. Но вместо них потребителю предлагаются заместители этих высших ценностей. Человек покупает ту или иную вещь, подчиняясь очарованию образа. Современная реклама давно уже рекламирует не собственно вещи, а образ успешной и престижной жизни. Поэтому, как правило, к созданию этого образа привлекаются известные медиаперсонажи, олицетворяющие идею успешности. Покупая обычный шампунь, которым воспользовалась известная спортсменка или любимый актер, потребитель приобщается к их славе и достижениям. Да и сам спорт давно превратился в успешное коммерческое предприятие по выпуску симулякров. Рекламное время в ходе трансляции престижных матчей и соревнований стоит в десятки раз больше обычного, поскольку рекламный клип встраивается вместе с элементами спортивного зрелища в слоистую структуру клипового мышления и придает мистическую силу рекламному знаку. Продажа спортивной атрибутики, несущей на себе магические эмблемы, составляет значительную долю доходов в бюджетах европейских футбольных клубов, а сами футбольные звезды зачастую больше получают за участие в рекламных кампаниях, чем за саму игру. Утраченная состязательность символического обмена возвращается в виде симулякра торгового знака или спортивного зрелища. Спорт как реальное состязание доступен или самым богатым, или самым бедным. Массовому потребителю остается только место на стадионе или телетрансляция.
Помимо сопричастности к определенному образу человека или практики, символическая ценность может ассоциироваться с определенными концептами престижа и статуса. Среди них обнаруживаются: совершенство – эстетическое и техническое, комфорт и безопасность, соответствие лучшим традициям, новейшие научные достижения и уникальность. Список остается открытым, так как появление новых концептов происходит внутри самой системы циркуляции знаков и зависит от множества событий в информационном пространстве. Реальная жизнь остается связанной с виртуальной, но зачастую негативно. Например, потребителя стараются привлечь новой упаковкой с «уникальными» свойствами, не меняя ее содержимого. Или рекламируемое ощущение безопас- ности в автомобиле, начиненном знаками надежности и технического совершенства, приводит в результате к излишне рискованному стилю вождения.
Символический капитал сконцентрирован в таком важном элементе современной экономики, как бренд. Несмотря на то что периодически публикуются сведения о стоимости брендов известных компаний, ценность их скорее символическая, поскольку формулируется в терминах доверия и лояльности со стороны потребителя. Это приводит к утрате реальных преимуществ, выраженных в качестве производимых продуктов, и разрушает устойчивые ориентиры, так необходимые для сохранения устойчивой картины мира. Утратив же внешние ориентиры, человек рискует потерять и внутреннюю устойчивость сознания и психики.
Рынок произведений искусства также заслуживает внимания, представляя еще один канал символического обмена, имеющий большое значение для современной культуры. Как показывает российский культуролог А. Б. Долгин, современный рынок искусства подчинен принципу «ухудшающего отбора», что ставит под сомнение его будущее [3]. Без создания эффективной системы навигации в океане произведений искусства современный потребитель рискует потратить большую часть своего ограниченного времени впустую, перебирая бесконечный бисер современной культуры в поисках достойных внимания объектов. Исследователь видит выход из этой ситуации в институте общественной экспертизы, организованном в сетевом интернет-сообществе. Но несмотря на экономическую обоснованность предлагаемой модели, нерешенной остается проблема разрушения привычной иерархически организованной системы ценностей прежних типов культуры.
Все предлагаемые сценарии будущего культуры весьма проблематичны. И обнаруженные проблемы не могут быть решены сообществом экспертов и системой государственных мероприятий, поскольку предполагают фундаментальные изменения принципов социальной организации и оснований культуры. А это невозможно без деятельного участия самого широкого круга специалистов и просто ныне живущих людей, понимающих серьезность современного «вызова истории».
Список литературы Символическая экономика современности: антропологические перспективы
- Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995. 172 с.
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 387 с.
- Долгин А. Б. Экономика символического обмена. М.: Инфра-М, 2006.
- Лаваль К. Человек экономический. Эссе о происхождении неолиберализма. М.: НЛО, 2010. 430 с.
- Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Канон-пресс-Ц, 2003. 464 с.
- Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М.: Академический проект, 2005. 496 с.
- Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 1999. 784 с.
- Уайт Л. Экономическая структура высоких культур//Антология исследований культуры. Интерпретации культуры. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.
- Шмигин И. Философия потребления. Харьков: Гуманитарный центр, 2009. 302 с.
- Шрадер Х. Экономическая антропология. СПб.: Петербургское Востоковедение, 1999. 180 с.